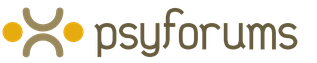"поэма без героя" анны ахматовой. Анализ произведения Ахматовой А.А. "Поэма без героя" Анализ «Поэмы без героя» Ахматовой
"Поэма без героя" Анны Ахматовой, над которой она работала четверть века, - одно из самых загадочных произведений русской литературы.
Анна Ахматова, действительно пережила со страной все – и крушение империи, и красный террор, и войну. Со спокойным достоинством, как и подобает «Анне Всея Руси», она вынесла и краткие периоды славы, и долгие десятилетия забвения. Со времени выхода ее первого сборника «Вечер» прошло сто лет, но поэзия Ахматовой не превратилась в памятник Серебряного века, не утратила первозданной свежести. Язык, на котором в ее стихах изъясняется женская любовь, по-прежнему понятен всем.
В «Поэме без героя» она как раз и показала самой себе, что именно случилось с ее жизнью, когда пронеслась «адская арлекинада» 13-го года. И что может сделать с человеком «Настоящий Двадцатый Век».
Введение
В ходе работы с материалами, посвящёнными “Поэме без героя”, одной из самых загадочных в творчестве Ахматовой, было обнаружено множество комментариев, касающихся каких-то частностей, которые очень подробно объясняются. Но ни одна из работ не содержит концепции поэмы. Сама же Ахматова ответила на многочисленные просьбы объяснить смысл поэмы фразой Пилата: “Еже писахъ - писахъ”. Цель данной работы заключается не в том, чтобы давать очередные комментарии к различным эпизодам поэмы, а в том, чтобы, обобщив уже известное, максимально адекватно воссоздать художественную концепцию поэмы, что и представляет собой новый для исследования данного произведения аспект.
Читателю, незнакомому с эпохой, в которую создавалась поэма, очень трудно в ней разобраться, и даже сам автор, или лирическая героиня, не скрывает, что “применила симпатические чернила”, нуждающиеся в “проявлении”. Ведь образность “Поэмы без героя” насыщена литературными и историкокультурными реминисценциями и аллюзиями, личными, культурологическими и историческими ассоциациями.
В работе также рассматривается символика поэмы: мотив зеркал, новогодняя “арлекинада”, библейские мотивы, подтекст эпиграфов и ремарок. Это все органичные составляющие ахматовской “криптограммы”, которые, как доказывается в ходе исследования, работают на концепцию поэмы.
Несмотря на то, что главы и части поэмы, а также вступление и посвящения создавались в разное время, поэма представляет собой целостное произведения с продуманной структурой, которая представлена с помощью схемы.
К “Поэме без героя” написаны три посвящения: Ольге Глебовой-Судейкиной, Всеволоду Князеву и Исайе Берлину. Три посвящения соответствуют трём частям поэмы.
Первая часть. Преступление
В Первой части (Петербургской повести) вместо ожидаемых гостей в новогоднюю ночь к лирической героине “…приходят тени из тринадцатого под видом ряженых”. Эти маски: Фауст, Дон -Жуан, Дапертутто, Иоканаан, - символизируют молодость лирической героини - грешную и беззаботную. Ахматова, ставя в один ряд героев демонических: Фауст, Дапертутто - и святых: Иоканаана (Иоанна Крестителя), хочет показать главный грех поколения - смешение добра и зла. Грехи поколения отражены в самом посвящении. Для Ахматовой очень большое значение имела нашумевшая в те годы история безответной любви юного поэта, двадцатилетнего драгуна Всеволода Князева к известной актрисе-красавице Ольге Глебовой-Судейкиной. Увидев как-то ночью, что Глебова- Судейкина вернулась домой не одна, юный поэт пустил себе пулю в лоб перед самой дверью любимой. История безответной любви Всеволода Князева к Ольге Глебовой-Судейкиной - своеобразная иллюстрация духовной жизни, которую вели люди, окружавшие Ахматову (лирическую героиню) и в которой, безусловно, принимала участие и она сама. Через всю поэму проходит мотив двойничества. Первым двойником лирической героини в поэме оказывается безымянная героиня, прототипом которой является Глебова-Судейкина:
Петербургская кукла, актёрка,
Ты - один из моих двойников.
Вторая часть. Наказание
Посвящение Всеволоду Князеву Ахматова пишет 27 декабря 1940 года, ещё до войны, а Второе посвящение, Ольге Глебовой-Судейкиной, написано уже после Великой Отечественной войны: 25 мая 1945 года. Таким образом, во Втором посвящении и во Второй части (“Решке”) Ахматова говорит о НАКАЗАНИИ, считая все катаклизмы ХХ века: русско-японскую войну, Первую мировую войну, две революции, репрессии, Великую Отечественную войну - расплатой за все грехи поколения и за свои собственные грехи. Но грехи, совершённые в молодости, трудно искупить. Можно покаянием и искуплением смягчить наказание. И пока лирическая героиня не сделает этого, при одной лишь мысли о том, что она может предстать перед Страшным Судом, её охватывает ужас. В поэме присутствует тема нравственного осуждения и неизбежности кары.
Ахматова показала картину распалённого, грешного, веселящегося Петербурга. Грядущие потрясения уже проступили через привычный петербургский туман, но никто не хотел их замечать. Ахматова понимала, что “блудная” жизнь петербургской богемы не останется без возмездия. Так оно и вышло. Во второй части героине видна расплата (отсюда и странное название - “Решка” - обратная сторона медали, “Орла”, вызывающее ассоциацию со словом “решётка”, что символизирует эпоху репрессий), искупление грехов молодости страданиями и гонениями: встречая новый 1941 год, героиня находится в полном одиночестве, в её доме “карнавальной полночью римской и не пахнет”. “Напев Херувимской у закрытых церквей дрожит”, и это пятого января по старому стилю, в канун Рождественского сочельника, - свидетельство гонений на православную церковь. И, наконец, героиня не может творить, так как её рот “замазан краской” и “землёй набит”. Война так же, как и репрессии, - искупление народом прошлых грехов, по мнению Ахматовой. Грехи молодости, казавшиеся невинными, никому не вредящими слабостями, обернулись для героини невыносимыми страданиями - муками совести и сознанием того, что она никогда не сможет оправдаться. Однако кающемуся грешнику всегда даётся возможность искупить свои грехи посредством страданий или добрых деяний. Но об этом в Третьей части.
Третья часть. Искупление
Третье и последнее посвящение адресовано Исайе Берлину, который в канун католического крещения посетил Ахматову в 1946 году. В тот вечер Ахматова читала своему гостю “Поэму без героя”, а позже выслала готовый экземпляр. На следующий день в квартире Ахматовой установили подслушивающее устройство. После встречи с Исайей Берлином, сотрудником американского посольства, “шпионом”, по мнению Сталина, последовала “гражданская казнь”, пик гонений, травли. Это было время, когда Ахматова не могла публиковать свои стихи, а вход во все литературные общества ей был заказан.
Третья часть “Поэмы без героя” (эпилог) посвящена ИСКУПЛЕНИЮ грехов молодости через страдания
Блокадный Ленинград тоже искупает вину своих жителей. Во время блокады, в 1942 году, героиня вынуждена уехать в Ташкент и, уезжая, она чувствует вину перед оставляемым ею городом. Но она настаивает на “мнимости” их разлуки, так как эта разлука кажется невыносимой. Героиня понимает, что, уезжая из Петербурга, она становится чем-то похожей на эмигрантов, так жарко обличавшихся ею. (“Не с теми я, кто бросил землю…”). Покинув страну в самое тяжёлое время, эмигранты отстраняются от Родины, предоставляя ей страдать и не желая разделить эти страдания. Уезжая из блокадного Ленинграда, героиня чувствует, что совершает то же самое. И здесь вновь появляется двойник лирической героини. Но это уже двойник-искупитель, лагерный узник, идущий на допрос. Этот же двойник говорит, идя с допроса, голосом самой героини:
За себя я заплатила Ни налево, ни направо
Чистоганом, Не глядела,
Ровно десять лет ходила А за мной худая слава
Под наганом, Шелестела.
В эпилоге говорится уже о России в целом, об искуплении ею грехов в период репрессий, а потом и в трагедии войны. Другая, “молодая” Россия идет, обновленная, отчищенная страданиями, “себе же самой навстречу”, то есть к обретению своих утраченных ценностей.
Так заканчивается поэма.
http://revolution.allbest.ru/literature/00003682_0.html
Окончательные решения в размышлениях о своем времени, о мире и человеке в нем были найдены Ахматовой в «Поэме без героя», ставшей для ее автора итогом жизни в поэзии. Сюжетной основой ее первой части, «петербургской повести» «Девятьсот тринадцатый год», явилась подлинная жизненная драма: не выдержав измены боготворимой им женщины, известной актрисы, очаровательной и непостоянной О. А. Глебовой-Судейки-ной, застрелился влюбленный в нее 22-летний поэт и гусар Be. Князев.
Вполне тривиальная любовная драма, если бы не ее трагический исход. Ho Ахматова и не испытывала желания выписывать для кого-то из читателей интересные ее перипетии. Ее поразил глубокий - символический - смысл происшедшего, словно ярким лучом прожектора высветившего существенные особенности эпохи. И названные выше имена в поэме ни разу не встречаются: место реально существовавших людей занимают традиционные персонажи театрализованного маскарада.
Важное для понимания поэмы обстоятельство: персонажи ее не живут, а играют в жизнь. Здесь все - в масках, каждый играет свою роль, другими словами, проживает искусственную жизнь, которая длится - но так лишь кажется - вечно: «Крик петуший нам только снится, За окошком Нева дымится, Ночь бездонна и длится, длится - Петербургская чертовня». Однако одному из участников этой придуманной, веселой и жуткой игры расплачиваться за участие в ней придется жизнью.
Игра в жизнь продолжается и за стенами дома, где происходит маскарадное действо: «Все уже на местах, кто надо, Пятым актом из Летнего сада Веет... Призрак Цусимского ада Тут же».
Трагифарс, составляющий сюжетную основу «петербургской повести», принадлежит своему времени. Как принадлежит ему и героиня поэмы, «петербургская кукла, актерка», что «друзей принимала в постели»: ее манящая прелесть, воплощенное в ней чувственное начало, греховная беззаботность - все это притягивало и обладало разрушающей силой, оказывалось порождением угара, столь характерного для стоявшего на краю гибели Петербурга 1913 г. Так открываются в поэме черты «предвоенной, блудной и грозной» поры, возникает ощущение неодолимости, с какой «по набережной легендарной Приближался не календарный - Настоящий Двадцатый Век».
С этим новым веком у Ахматовой свои не простые отношения, свои счеты. Приближение его подано в том же трагифарсовом ключе, что и сцены «полночной Гофманианы», только главным персонажем становится теперь город на Неве:
Были святки кострами согреты,
И валились с мостов кареты,
И весь траурный город плыл
По неведомому назначенью,
По Неве или против теченья, -
Только прочь от своих могил.
Ахматова не отказывает в любви городу, с которым была связана вся ее жизнь: «Я с тобою неразлучима, Тень моя на стенах твоих, Отраженье мое в каналах, Звук шагов в эрмитажных залах, Где со мною мой друг бродил». Ho именно здесь, в Петербурге, наиболее ощутимо течение (точнее - все убыстряющийся полет) времени, наиболее отчетливо ощутимо, куда движется оно, что несет с собою. Ведь и трагедия «драгунского Пьеро»: «Кому жить осталось немного, Кто лишь смерти просит у Бога И кто будет навеки забыт» - тоже принадлежит времени. Как принадлежит ему и полная драматизма судьба автора поэмы. И в том и в другом случае обнаруживает себя кризисный характер эпохи, когда расцвет оборачивается гибелью, а впереди - «Золотого ли века виденье Или черное преступленье В грозном хаосе древних дней? ».
Отказываясь выступать в роли судьи, Ахматова вместе с тем знает: «Все равно подходит расплата». Смерть юноши-поэта, который не мог пережить измены любимой, лишь первый акт драмы, что разыгрывалась в XX в. на просторах истории. Четырнадцатый, а затем и сорок первый год явил иные ее масштабы. Ho не случайно память автора «Поэмы без героя» в осажденном Ленинграде возвращается к тому, «с чем давно простилась».
«Поэма без героя» бессюжетна - у нее открытый финал: она разомкнута в жизнь. Содержание ее определяется событиями давно минувших лет: «Сплю - мне снится молодость наша...» Ho само время для автора поэмы неодномерно: «Как в прошедшем грядущее зреет, Так в грядущем прошлое тлеет...» Вот почему в поэме «снится то, что с нами должно случиться...», расслышан тогда еще «непонятный гул» - отзвуки шагов истории, в которую без остатка вписалась жизнь народа и его поэта.
4. О «ПОЭМЕ БЕЗ ГЕРОЯ»
РАЗДЕЛ СОСТАВЛЕН ЛИЧНО МНОЮ НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА РАЗЛИЧНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
4.1 ИЗ НАЙМАНА А.Г.
Ахматова начала писать Поэму в пятьдесят лет и писала до конца жизни. Во всех смыслах эта вещь занимала центральное место в ее творчестве, судьбе, биографии.
Это была единственная ее цельная книга после пяти первых, то есть после 1921 года, при этом не в одном ряду с ними, а их - как и все, что вообще написала Ахматова, включая самое Поэму, - покрывшая собою, включившая в себя. Она искусно и основательно составляла отделы готовившихся к печати и выходивших или попадавших под нож сборников, была мастером соединения стихотворений в циклы.
Поэма была для Ахматовой, как "Онегин" для Пушкина, сводом всех тем, сюжетов, принципов и критериев ее поэзии. По ней, как по каталогу, можно искать чуть ли не отдельные ее стихотворения. Начавшись обзором пережитого - а стало быть, написанного, - она сразу взяла на себя функцию учетно-отчетного гроссбуха - или электронной памяти современных ЭВМ, - где, определенным образом перекодированные, "отмечались" "Реквием", "Ветер войны", "Шиповник цветет", "Полночные стихи", "Пролог" - словом, все крупные циклы и некоторые из вещей, стоящие особняком, равно как и вся ахматовская пушкиниана. Попутно Ахматова совершенно сознательно вела Поэму и в духе беспристрастной летописи событий, возможно осуществляя таким своеобразным способом пушкинско-карамзинскую миссию поэта-историографа.
Поэма открывается тремя посвящениями, за которыми стоят три столь же конкретные, сколь и обобщенные, и символические фигуры: поэт начала века, погибший на пороге его (Всеволод Князев); красавица начала века, подруга поэтов, и, неправдоподобная, реальная, исчезающая - как ее, и всякая, красота (Ольга Глебова-Судейкина); и гость из будущего (Исайя Берлин), тот, за кого автором и ее друзьями в начале века были подняты бокалы: "Мы выпить должны за того, кого еще с нами нет".
Впервые в хор "чужие голоса" у Ахматовой сливаются - или, если о том же сказать по-другому: впервые за хор поет ахматовский голос - в "Реквиеме". Разница между трагедией "Поэмы без героя" и трагедией "Реквиема" такая же, как между убийством на сцене и убийством в зрительном зале. Собственно говоря, "Реквием" - это советская поэзия, осуществленная в том идеальном виде, какой описывают все демагогические ее декларации. Герой этой поэзии – народ: все до единого участвуют на той или другой стороне в происходящем. Эта поэзия говорит от имени народа, поэт - вместе с ним, его часть. Ее язык почти газетно прост, понятен народу, ее приемы - лобовые: "для них соткала я широкий покров из бедных, у них же подслушанных слов". И эта поэзия полна любви к народу.
Отличает и тем самым противопоставляет ее даже идеальной советской поэзии то, что она личная, столь же глубоко личная, что и "Сжала руки под темной вуалью". От реальной советской поэзии ее отличает, разумеется, и многое другое; во-первых, исходная и уравновешивающая трагедию христианская религиозность, потом - антигероичность, потом - не ставящая себе ограничений искренность, называние запретных вещей их именами.
А личное отношение - это не то, чего нет, а то, что есть и каждым словом свидетельствует о себе в поэзии "Реквиема". Это то, что и делает "Реквием" поэзией - не советской, просто поэзией, ибо советской поэзии на эту тему следовало быть государственной; личной она могла быть, если касалась отдельных лиц, их любви, их настроений, их, согласно разрешенной официально формуле, "радостей и бед».
Когда "Реквием" в начале 60-х годов всплыл после четвертьвекового лежания на дне, впечатление от него у прочитавшей публики было совсем не похоже на обычное читательское впечатление от ахматовских стихов. Людям - после разоблачений документальных - требовалась литература разоблачений, и под этим углом они воспринимали "Реквием". Ахматова это чувствовала, считала закономерным, но не отделяла эти свои стихи, их художественные приемы и принципы, от остальных.
Тогда, в 60-е годы, "Реквием" попал в один список с самиздатской лагерной литературой, а не с частично разрешенной антисталинской. Ненависть Ахматовой к Сталину была смешана с презрением.
4.2. КОММЕНТАРИЙ К «ПОЭМЕ БЕЗ ГЕРОЯ»
"Поэма без героя" Анны Ахматовой, над которой она работала четверть века, - одно из самых загадочных произведений русской литературы.
Анна Ахматова, действительно пережила со страной все – и крушение империи, и красный террор, и войну. Со спокойным достоинством, как и подобает «Анне Всея Руси», она вынесла и краткие периоды славы, и долгие десятилетия забвения. Со времени выхода ее первого сборника «Вечер» прошло сто лет, но поэзия Ахматовой не превратилась в памятник Серебряного века, не утратила первозданной свежести. Язык, на котором в ее стихах изъясняется женская любовь, по-прежнему понятен всем.
В «Поэме без героя» она как раз и показала самой себе, что именно случилось с ее жизнью, когда пронеслась «адская арлекинада» 13-го года. И что может сделать с человеком «Настоящий Двадцатый Век».
Введение
В ходе работы с материалами, посвящёнными “Поэме без героя”, одной из самых загадочных в творчестве Ахматовой, было обнаружено множество комментариев, касающихся каких-то частностей, которые очень подробно объясняются. Но ни одна из работ не содержит концепции поэмы. Сама же Ахматова ответила на многочисленные просьбы объяснить смысл поэмы фразой Пилата: “Еже писахъ - писахъ”. Цель данной работы заключается не в том, чтобы давать очередные комментарии к различным эпизодам поэмы, а в том, чтобы, обобщив уже известное, максимально адекватно воссоздать художественную концепцию поэмы, что и представляет собой новый для исследования данного произведения аспект.
Читателю, незнакомому с эпохой, в которую создавалась поэма, очень трудно в ней разобраться, и даже сам автор, или лирическая героиня, не скрывает, что “применила симпатические чернила”, нуждающиеся в “проявлении”. Ведь образность “Поэмы без героя” насыщена литературными и историкокультурными реминисценциями и аллюзиями, личными, культурологическими и историческими ассоциациями.
В работе также рассматривается символика поэмы: мотив зеркал, новогодняя “арлекинада”, библейские мотивы, подтекст эпиграфов и ремарок. Это все органичные составляющие ахматовской “криптограммы”, которые, как доказывается в ходе исследования, работают на концепцию поэмы.
Несмотря на то, что главы и части поэмы, а также вступление и посвящения создавались в разное время, поэма представляет собой целостное произведения с продуманной структурой, которая представлена с помощью схемы.
К “Поэме без героя” написаны три посвящения: Ольге Глебовой-Судейкиной, Всеволоду Князеву и Исайе Берлину. Три посвящения соответствуют трём частям поэмы.
Первая часть. Преступление
В Первой части (Петербургской повести) вместо ожидаемых гостей в новогоднюю ночь к лирической героине “…приходят тени из тринадцатого под видом ряженых”. Эти маски: Фауст, Дон -Жуан, Дапертутто, Иоканаан, - символизируют молодость лирической героини - грешную и беззаботную. Ахматова, ставя в один ряд героев демонических: Фауст, Дапертутто - и святых: Иоканаана (Иоанна Крестителя), хочет показать главный грех поколения - смешение добра и зла. Грехи поколения отражены в самом посвящении.
Для Ахматовой очень большое значение имела нашумевшая в те годы история безответной любви юного поэта, двадцатилетнего драгуна Всеволода Князева к известной актрисе-красавице Ольге Глебовой-Судейкиной. Увидев как-то ночью, что Глебова- Судейкина вернулась домой не одна, юный поэт пустил себе пулю в лоб перед самой дверью любимой. История безответной любви Всеволода Князева к Ольге Глебовой-Судейкиной - своеобразная иллюстрация духовной жизни, которую вели люди, окружавшие Ахматову (лирическую героиню) и в которой, безусловно, принимала участие и она сама.
Через всю поэму проходит мотив двойничества. Первым двойником лирической героини в поэме оказывается безымянная героиня, прототипом которой является Глебова-Судейкина:
Петербургская кукла, актёрка,
Ты - один из моих двойников.
Вторая часть. Наказание
Посвящение Всеволоду Князеву Ахматова пишет 27 декабря 1940 года, ещё до войны, а Второе посвящение, Ольге Глебовой-Судейкиной, написано уже после Великой Отечественной войны: 25 мая 1945 года. Таким образом, во Втором посвящении и во Второй части (“Решке”) Ахматова говорит о НАКАЗАНИИ, считая все катаклизмы ХХ века: русско-японскую войну, Первую мировую войну, две революции, репрессии, Великую Отечественную войну - расплатой за все грехи поколения и за свои собственные грехи. Но грехи, совершённые в молодости, трудно искупить. Можно покаянием и искуплением смягчить наказание. И пока лирическая героиня не сделает этого, при одной лишь мысли о том, что она может предстать перед Страшным Судом, её охватывает ужас.В поэме присутствует тема нравственного осуждения и неизбежности кары.
Ахматова показала картину распалённого, грешного, веселящегося Петербурга.
Грядущие потрясения уже проступили через привычный петербургский туман, но никто не хотел их замечать. Ахматова понимала, что “блудная” жизнь петербургской богемы не останется без возмездия. Так оно и вышло.
Во второй части героине видна расплата (отсюда и странное название - “Решка” - обратная сторона медали, “Орла”, вызывающее ассоциацию со словом “решётка”, что символизирует эпоху репрессий), искупление грехов молодости страданиями и гонениями: встречая новый 1941 год, героиня находится в полном одиночестве, в её доме “карнавальной полночью римской и не пахнет”. “Напев Херувимской у закрытых церквей дрожит”, и это пятого января по старому стилю, в канун Рождественского сочельника, - свидетельство гонений на православную церковь.
И, наконец, героиня не может творить, так как её рот “замазан краской” и “землёй набит”. Война так же, как и репрессии, - искупление народом прошлых грехов, по мнению Ахматовой. Грехи молодости, казавшиеся невинными, никому не вредящими слабостями, обернулись для героини невыносимыми страданиями - муками совести и сознанием того, что она никогда не сможет оправдаться. Однако кающемуся грешнику всегда даётся возможность искупить свои грехи посредством страданий или добрых деяний. Но об этом в Третьей части.
Третья часть. Искупление
Третье и последнее посвящение адресовано Исайе Берлину, который в канун католического крещения посетил Ахматову в 1946 году. В тот вечер Ахматова читала своему гостю “Поэму без героя”, а позже выслала готовый экземпляр. На следующий день в квартире Ахматовой установили подслушивающее устройство. После встречи с Исайей Берлином, сотрудником американского посольства, “шпионом”, по мнению Сталина, последовала “гражданская казнь”, пик гонений, травли. Это было время, когда Ахматова не могла публиковать свои стихи, а вход во все литературные общества ей был заказан.
Третья часть “Поэмы без героя” (эпилог) посвящена ИСКУПЛЕНИЮ грехов молодости через страдания.
Блокадный Ленинград тоже искупает вину своих жителей. Во время блокады, в 1942 году, героиня вынуждена уехать в Ташкент и, уезжая, она чувствует вину перед оставляемым ею городом. Но она настаивает на “мнимости” их разлуки, так как эта разлука кажется невыносимой. Героиня понимает, что, уезжая из Петербурга, она становится чем-то похожей на эмигрантов, так жарко обличавшихся ею. (“Не с теми я, кто бросил землю…”). Покинув страну в самое тяжёлое время, эмигранты отстраняются от Родины, предоставляя ей страдать и не желая разделить эти страдания. Уезжая из блокадного Ленинграда, героиня чувствует, что совершает то же самое. И здесь вновь появляется двойник лирической героини. Но это уже двойник-искупитель, лагерный узник, идущий на допрос. Этот же двойник говорит, идя с допроса, голосом самой героини:
За себя я заплатила Ни налево, ни направо
Чистоганом, Не глядела,
Ровно десять лет ходила А за мной худая слава
Под наганом, Шелестела.
В эпилоге говорится уже о России в целом, об искуплении ею грехов в период репрессий, а потом и в трагедии войны. Другая, “молодая” Россия идет, обновленная, отчищенная страданиями, “себе же самой навстречу”, то есть к обретению своих утраченных ценностей.
Так заканчивается поэма.
Но вместо того, кого она ждала, новогодним вечером к автору в Фонтанный Дом приходят тени из тринадцатого года под видом ряженых. Один наряжен Фаустом, другой - Дон Жуаном. Приходят Дапертутто, Иоканаан, северный Глан, убийца Дориан. Автор не боится своих неожиданных гостей, но приходит в замешательство, не понимая: как могло случиться, что лишь она, одна из всех, осталась в живых? Ей вдруг кажется, что сама она - такая, какою была в тринадцатом году и с какою не хотела бы встретиться до Страшного Суда, - войдёт сейчас в Белый зал. Она забыла уроки краснобаев и лжепророков, но они её не забыли: как в прошедшем грядущее зреет, так в грядущем прошлое тлеет.
Единственный, кто не появился на этом страшном празднике мёртвой листвы, - Гость из Будущего. Зато приходит Поэт, наряженный полосатой верстой, - ровесник Мамврийского дуба, вековой собеседник луны. Он не ждёт для себя пышных юбилейных кресел, к нему не пристают грехи. Но об этом лучше всего рассказали его стихи. Среди гостей - и тот самый демон, который в переполненном зале посылал чёрную розу в бокале и который встретился с Командором.
В беспечной, пряной, бесстыдной маскарадной болтовне автору слышатся знакомые голоса. Говорят о Казакове, о кафе «Бродячая собака». Кто-то притаскивает в Белый зал козлоногую. Она полна окаянной пляской и парадно обнажена. После крика: «Героя на авансцену!» - призраки убегают. Оставшись в одиночестве, автор видит своего зазеркального гостя с бледным лбом и открытыми глазами - и понимает, что могильные плиты хрупки и гранит мягче воска. Гость шепчет, что оставит её живою, но она вечно будет его вдовою. Потом в отдаленье слышится его чистый голос: «Я к смерти готов».
Ветер, не то вспоминая, не то пророчествуя, бормочет о Петербурге 1913 г. В тот год серебряный месяц ярко над серебряным веком стыл. Город уходил в туман, в предвоенной морозной духоте жил какой-то будущий гул. Но тогда он почти не тревожил души и тонул в невских сугробах. А по набережной легендарной приближался не календарный - настоящий Двадцатый Век.
В тот год и встал над мятежной юностью автора незабвенный и нежный друг - только раз приснившийся сон. Навек забыта его могила, словно вовсе и не жил он. Но она верит, что он придёт, чтобы снова сказать ей победившее смерть слово и разгадку её жизни.
Адская арлекинада тринадцатого года проносится мимо. Автор остаётся в Фонтанном Доме 5 января 1941 г. В окне виден призрак оснеженного клёна. В вое ветра слышатся очень глубоко и очень умело спрятанные обрывки Реквиема. Редактор поэмы недоволен автором. Он говорит, что невозможно понять, кто в кого влюблён, кто, когда и зачем встречался, кто погиб, и кто жив остался, и кто автор, и кто герой.
Редактор уверен, что сегодня ни к чему рассуждения о поэте и рой призраков. Автор возражает: она сама рада была бы не видеть адской арлекинады и не петь среди ужаса пыток, ссылок и казней. Вместе со своими современницами - каторжанками, «стопятницами», пленницами - она готова рассказать, как они жили в страхе по ту сторону ада, растили детей для плахи, застенка и тюрьмы. Но она не может сойти с той дороги, на которую чудом набрела, и не дописать свою поэму.
Белой ночью 24 июня 1942 г. догорают пожары в развалинах Ленинграда. В Шереметевском саду цветут липы и поёт соловей. Увечный клён растёт под окном Фонтанного Дома. Автор, находящийся за семь тысяч километров, знает, что клён ещё в начале войны предвидел разлуку. Она видит своего двойника, идущего на допрос за проволокой колючей, в самом сердце тайги дремучей, и слышит свой голос из уст двойника: за тебя я заплатила чистоганом, ровно десять лет ходила под наганом...
Автор понимает, что её невозможно разлучить с крамольным, опальным, милым городом, на стенах которого - её тень. Она вспоминает день, когда покидала свой город в начале войны, в брюхе летучей рыбы спасаясь от злой погони. Внизу ей открылась та дорога, по которой увезли её сына и ещё многих людей. И, зная срок отмщения, обуянная смертным страхом, опустивши глаза сухие и ломая руки, Россия шла перед нею на восток.
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
"Поэма без героя" Анны Ахматовой
Т.В. Цивьян
(некоторые итоги изучения в связи с проблемой "текст-читатель")
Итак, не поэзия неподвижна, а читатель не поспевает за поэтом", - писала Ахматова в статье ""Каменный гость" Пушкина", и, как всегда, здесь следует усматривать указание на ее собственные взаимоотношения с читателем. Сама конструкция этого афористического пассажа содержит те, на первый взгляд, почти незаметные ахматовские "сдвиги" - в смыслах, логике, грамматике, - которые оборачиваются почти императивом к принципиально новому видению объекта. Но это обнаруживается лишь при внимательном чтении-толковании. Противопоставление в той форме, в какой оно преподносится Ахматовой, звучит почти оксюморонно: Не X неподвижен, а У не может его догнать, или не X неподвижен, а У движется недостаточно быстро. Самый простой способ приведения этой конструкций к уровню общепринятой логики - снятие двух отрицаний при поэзии ("поэзия не неподвижна"): поэзия подвижна, и именно благодаря этому ее свойству возникает та разница скоростей, при которой читатель оказывается позади.
Но это было бы слишком легким решением, поскольку оно снимает противопоставление поэзии / поэта и читателя по амбивалентному в отношении к поэзии признаку движение. В сущности, подвижность / неподвижность поэзии не может быть определена однозначно: она как точка на горизонте, к достижению которой устремляется читатель и которая по мере его приближения к ней удаляется, оставаясь в конце концов недостижимой. Можно привести и другую метафору этого иллюзорного "взаимного сближения", или движения: ситуация моста (ср. важность этого символа для Ахматовой, особенно в связи с "Поэмой без героя"): если стоять на мосту "против течения" и смотреть, как движется река, то очень скоро возникает ощущение того, что река неподвижна, а мост - движется (или весь город плывет по Неве, иль против теченья). Так и в этой мысли Ахматовой могут быть зашифрованы и сложность концепта движение в связи с его принципиальной относительностью, и проекция этого концепта на пространство поэтического текста, в котором сосуществуют во взаимном движении его автор и его адресат.
Задача "ахматовского читателя" - если не поспеть за поэтом, то по крайней мере идти по его следам, по оставляемым им путевым знакам. Этому движению уместно сейчас подвести некоторые итоги. Следует подчеркнуть, что в данном случае речь идет не об итогах в узком смысле слова, то есть о том, что было реализовано и что опубликовано в многочисленных (по окончании 1989-го, "ахматовского" года и бесчисленных) монографиях, статьях, публикациях, комментариях, мемуарах и т. п. Как это ни покажется странным, но здесь "итоги" обходятся не только без библиографии, но и без имен тех, кто вложил свою лепту в ахматовиану, - и эта анонимность вполне сознательна. Она объясняется не нежеланием устанавливать иерархию и тем самым вольно или невольно давать оценки (вернее, не только этим). Для нас более важным было показать, что формирование "ахматовского читателя-исследователя" происходило по "методике", заданной ахматовским текстом, что прокладывание пути шло по ее указаниям, по большей части прикровенным, в виде намеков, и даже сбивающим с толку.
Наши собственные занятия "Поэмой" датируются началом 1960-х годов; число единомышленников, с которыми обсуждались подступы к тому, что сейчас называется "дешифровкой", было тогда невелико. Но и раньше, и одновременно, и позже обращались к "Поэме" и другие: она, как в воронку, втягивала в свое изучение, толкование, сопричастие все больший и больший круг "адептов", которых объединяло одно: осознанно или инстинктивно, но они шли по пути, намеченному Ахматовой специально для "Поэмы", то есть выполняли поставленные ею (Автором / Героиней, самой "Поэмой") "задания". При всех девиациях, этот путь оказался в конце концов единым. Поэтому то, что мы теперь знаем о "Поэме" (или то, чему она нас обучила), то, что продолжаем узнавать, то, что еще узнаем в процессе бесконечного преследования "Поэмы", - все это есть как бы результат совместного творчества ее "учеников". Разумеется, среди них были и есть "первые ученики".
Нам показалось более важным попытаться проникнуть в самодовлеющий механизм "Поэмы", который активизирует возможности ее исследователя. Мы пытаемся восстановить в самом общем плане историю того, как "Поэма" выбирала своего читателя и обучала его, преследуя при этом свои цели. Эти цели обнаружились сейчас, по результатам; результаты же, в свою очередь, зовут к дальнейшему изучению "Поэмы", и весь процесс оказывается perpetuum mobile.
Приближение к "Поэме" началось с того, что при множестве вопросов, недоумений и неопределенностей стало сразу ясно: "Поэма без героя" - радикальный опыт преобразования жанра поэмы, с которым в русской поэзии за последний век, пожалуй, трудно что-либо сопоставить. Очевидно было, что для такого принципиально нового текста следовало выработать и особый метод анализа, ключ к которому, как оказалось, содержится (в буквальном смысле, то есть выражается словесно, формулируется) в самой "Поэме".
Наверно, самое трудное, особенно для исследователей "со стажем", восстановить начала, - когда в их распоряжении были лишь разрозненные публикации отдельных фрагментов "Поэмы" и немногочисленные списки. Постепенно, в течение десятилетий всплывали (и это продолжается по сей день - таковы особенности "Поэмы") новые и новые списки, строфы и строки (и не только "неподцензурные"), записи слушателей и читателей и, наконец, - едва ли не самое важное - "Проза о Поэме", содержащая ее (и Автора) автометаописание. Собственно говоря, именно эта проза - "Письма", "Вместо предисловия", записанные Ахматовой читательские отзывы, история и хронология "Поэмы", наконец, ее полная прозаическая ипостась (балетное либретто) - сыграла роль арбитра, верифицировав многое из того, что было "добыто" раньше, и тем самым апробировав избранный путь.
Иными словами, эксплицитно подтвердилось то, что содержалось в "Поэме" (главным образом в ее стихотворной части) имплицитно, а это означало, что внимательный читатель верно уловил путевые вехи.
Самый общий и самый первый подход к "Поэме" состоял в том, чтобы рассматривать ее как текст особого рода, принципиально открытый, одновременно имеющий начало и конец и не имеющий их (с одной стороны, Ахматова точно указывает день, когда к ней пришла "Поэма", с другой - затрудняется определить время, когда она начала звучать в ней; несколько раз она объявляла "Поэму" законченной, каждый раз снова к ней возвращаясь), поскольку этот текст находился в процессе непрерывного творения. Здесь трудно сказать, текст ли интериоризирован в жизнь, жизнь ли интериоризирована в текст, и попытки установить это однозначно не имеют смысла. Естественно, что эти особенности характеризуют "Поэму" как текст с особенно сложной структурой, сопоставимой, в частности, со структурой архетипического мышления (бриколаж, в терминологии Леви-Стросса, то есть непрямой путь, маскировка), с музыкальными структурами и т.п. В этом смысле уход "Поэмы" в балетное либретто - иллюстрация заложенной в ней возможности перекодирования, явления в различных воплощениях (performances).
Одна из особенностей структуры такого рода - обращенность на текст, то есть обращенность Автора на текст и текста на текст, что проявляется по крайней мере в двух аспектах: интертекстуальность и уже названный бриколаж. Интертекстуальность бросалась в глаза, даже если бы не было специальных указаний Ахматовой на цитирование (прежде всего - на автоцитаты). В "Письме к N.N." Ахматова указывала на стихотворение "Современница" как на предвестницу, присланную "Поэмой". Стихотворения с таким названием не было, но по строкам "Всегда нарядней всех, всех розовей и выше", отраженным в "Поэме" ("Всех наряднее и всех выше"), легко опознавалась стихотворение "Тень", Эпиграф из стихотворения Вс. Князева "любовь прошла…" побудил обратиться к сборнику его стихов, где был найден "палевый локон". Хрестоматийные блоковские "знаки" ("та черная роза в бокале") определенно заставляли обратиться к цитатному слою "Поэмы", возраставшему лавинообразно. Это задание было сформулировано Ахматовой в самом начале, в "Первом посвящении"; поиски чужого слова оказались хронологически первыми в анализе "Поэмы" и, как и она сама, не имеющими конца. Введено было понятие "соборной", или "перетекающей", цитаты, восходящей не к одному, а одновременно к нескольким источникам или указывающей на некий цитатный архетип. Эта зыбкость, многослойность цитирования отводит упреки (и Автору, и особенно исследователям) в том, что "Поэму" хотят превратить в канонический центон, в том, что Ахматова писала, "обложившись книгами" (хотя ее обращение к первоисточникам впоследствии было подтверждено мемуарными данными). Смысл центонности заключался в том, чтобы обратить внимание читателя на некий фон, постоянно слышимый второй шаг.
Насыщенность "Поэмы" чужим словом, казалось бы, служит указанием к поиску героев-прототипов, тем более что Ахматова настойчиво повторяет, что в основе сюжета лежит действительное событие, хорошо известное современникам. Однако более пристальное внимание позволяет обнаружить, что чужое слово выводит не столько к прототипам, сколько к метапоэтическому слою "Поэмы", едва ли не превалирующему над сюжетным. В определенном смысле в основу "Поэмы" положен меональный способ письма, в свое время сформулированный Мандельштамом: "Страшно подумать, что наша жизнь - это повесть без фабулы и героя, сделанная из пустоты и стекла, из горячего лепета одних отступлений, из петербургского инфлуэнцного бреда"1. В статье "Выпад" Мандельштам говорит о роли читателя (читателя, который эту свою роль понимает и берет на себя сознательно) в овладении такого рода текстом: "...поэтическое письмо в значительной степени представляет большой пробел, зияющее отсутствие множества знаков, значков, указателей, подразумеваемых, единственно делающих текст понятным и закономерным все эти значки поэтически грамотный читатель ставит от себя, как бы извлекая их из самого текста" (курсив мой. - Т. Ц.)2.
В поэтике Ахматовой эти отступления, наросты, проколы и прогулы становятся важнейшими конструктивными приемами. Не является ли сама "Поэма" сплошным отступлением? Достаточно сложно вычленить в ней непосредственно сюжет (любовный треугольник), и оказывается, что ему отведено очень небольшое пространство текста. Вообще же в "Поэме" все как бы "вокруг да около": Вместо предисловия. Три посвящения, Вступление, Интермедия, Послесловие, Интермеццо, Эпилог, Примечания, многочисленные (и варьирующиеся) эпиграфы, пропущенные (бродящие вокруг) строфы, даты, сноски, прозаические ремарки, Проза о Поэме заполняют ее пространство, растворяя в себе то, что в других традициях является не только основой, но и необходимым условием данного жанра (и новаторство Ахматовой проявляется прежде всего в этом; вернее, этот прием - начало, на которое навивается и многое другое, выводящее "Поэму" из рамок жанра).
Подступы и отступы, частности, дигрессии оказываются тем меональным каркасом, на котором, как на воздухе, держится то, что определяется не по существу, не "материально", а лишь по изменению конфигураций во вспомогательных частях "Поэмы". Прямое описание заменяется нулевым, апофатическим, теневым, опрокинутым (зеркальным) и т. д. Лучше всего (как всегда) это сформулировано самой Ахматовой (о ее портрете работы Модильяни): "...сказал мне об этом портрете нечто такое, что я не могу "ни вспомнить, ни забыть", как сказал один известный поэт о чем-то совсем другом". Или (в "Прозе о Поэме"): "...того же, кто упомянут в ее заглавии и кого так жадно искала сталинская охранка, в "Поэме" действительно нет, но многое основано на его отсутствии".
Один из результатов такого рода меонального описания - создание семантической неопределенности, амбивалентности: элементы поэтического текста плавают в семантическом пространстве как бы взвешенно, не будучи прикреплены к одной точке, то есть не обладая однозначной семантической характеристикой. Между элементами текста оказывается разреженное семантическое пространство, в котором привычные, автоматические семантические связи ослабевают. Автор строит семантическое пространство текста с высшей степенью свободы. Отсюда возникает концепт двойников - не двойника, а именно двойников, множащихся бесконечных отражений - но чьих? или чего? Точкой отсчета оказывается Автор как создатель текста, как демиург в мифологическом смысле слова, - но не как образец, на который ориентированы (или "похожи") другие. В этом смысле снимается вопрос "схожести" двойников, и цель видится в другом: в трансцендентальном объединении всего многообразия мира. Двойником Автора оказывается не только Героиня ("Ты - один из моих двойников"), но и Город ("Разлучение наше мнимо, / Я с тобою - неразлучима"); "Где сама я и где только тень" - это, среди прочего, и "Тень моя на стенах твоих..."
Атмосфера неопределенности в "Поэме" настолько обволакивает, что не может не возникнуть вопрос: нужно ли в таком случае искать прототипы? Как будто все сказанное выше свидетельствует о том, что это совершенно необязательно, что, напротив, это было бы нарушением приема. Более того, поиски прототипов или реалий в литературе, особенно в поэтическом произведении, обычно выводятся за пределы непосредственного анализа текста в литературно-исторический (биографический) комментарий; тем самым подчеркивается ["факультативность. Действительно, сила художественного произведения и залог его долгой жизни во времени и пространстве - в том, что оно остается значимым, равным самому себе и тогда, когда его реалии оказываются забытыми и невосстановимыми. Собственно, об этом же говорит и Ахматова, отказываясь объяснять "Поэму" и руководствуясь высоким примером: "Еже писах, писах".
Однако в сложной, "перевертывающейся" семантике "Поэмы" это утверждение опровергается самим Автором - и таким образом, что в нем можно видеть побуждение, указание, а не запрещение искать потаенные смыслы. Сомневаясь в догадливости читателя или понимая, что для этой "Поэмы" нужно читателя обучать и "создавать" (не отсюда ли подчеркивание постоянной борьбы-помощи читателя, то есть его сотрудничества с Автором?), Ахматова вводит особую часть "Поэмы" - "Решка", которая является своего рода руководством, "учебным пособием" для читателя: в ней содержатся и указания на то, как преодолеть непонимание, и настойчивые побуждения к поискам. И здесь снова следует сказать, что путевые знаки были определены правильно - и не только в основном, но и в деталях. Уже говорилось, что когда поиски начинались, то начинались они, по разным причинам, практически с нуля. Но когда стали известны (доступны) фрагменты "Прозы о Поэме", и прежде всего балетное либретто, оказалось, что сотрудничество Автора и читателя-исследователя было плодотворным.
Однако это был лишь первый слой "Поэмы". После того как была восстановлена (и установлена) ее реальная подоснова, выяснилось, что "на самом деле" все было не то или не так или, во всяком случае, не совсем то и не совсем так. "Запрещения", которые мы только что определили как скрытые указания, приобрели свое прямое значение, предостерегая от буквализма. Определенную роль в излишне буквальном восприятии "Поэмы" сыграла ее магия, увлекающая в свой водоворот читателя. Если задуматься, можно ли было требовать от сложнейшего поэтического произведения, чтобы оно в то же время было и точной летописью? Как могла возникнуть иллюзия, что реалии вошли в "Поэму" не преображенными волей Автора?
Итак, привели ли поиски шифра (по указанию Ахматовой) к дешифровке, в частности к однозначному установлению прототипов? В таком понимании дешифровки - нет. Более того, оказалось, что исследователи не смогли выйти за пределы, установленные Ахматовой: подтвержденными оказались те фигуры, которых она сочла возможным назвать; другие так и остались неузнанными - предположительными или "соборными". Настойчивость магических чисел - второй шаг, двойное или тройное дно шкатулки, третьи, седьмые и двадцать девятые смыслы и т. д. приводят к пониманию того, что с читателем-учеником, читателем-исследователем ведется очень сложная игра. В частности, опровержения - не надо искать такого-то или то-то - являются по сути введением новых имен, расширением границ текста. Это не просто "Поэма без героя", это Поэма без героев, и при этом указано слишком много таких не-героев! (прием далеко не тривиальный). Таким образом, умышленность "Поэмы" является абсолютной, все детали проработаны, все они нацелены на читателя. Это, естественно, никак не опровергает спонтанности "Поэмы", которая вела Автора и спасала его, то есть выполняла в отношении Автора ту же демиургическую роль.
Здесь нельзя не задуматься о целях, которые ставила Ахматова, достаточно определенно формулируя их в той же "Поэме". Это прежде всего цели "литературные", о которых уже говорилось: взломать застоявшийся жанр русской поэмы, создать нечто принципиально новое, подчеркнуть непохожесть на предыдущее и непохожесть на самое себя, но одновременно - "самопреемственность", то есть тождество самой себе. В этом смысле "Я тишайшая, я простая" является откровенным розыгрышем.
С Ахматовой надо постоянно быть настороже. И отзывы читателей, которые она приводит, и раздражение на их непонятливость (ср. "Второе письмо", где читателя упрекают в излишней доверчивости, в том, что он дал себя сбить ложными указаниями) - все приводит к одному и тому же: поиски сюжета, прототипов надежнее вести средствами самого текста (в рамках интертекстуальности), чем на основе мемуаров, - и не только потому, что в отношении мемуаров всегда актуален критерий достоверности / недостоверности. Целью Ахматовой было не описание некоего события, случившегося нее кругу, а воссоздание литературно художественной стороны определенного исторического периода с его сугубо знаковыми, символичными реалиями.
Ахматова "заставила" провести историко-культурные, литературоведческие, театроведческие, музыковедческие и другие изыскания, чтобы восстановить петербургскую гофманиану и ее роль в контексте трагического периода русской истории. Детали, разбросанные в "Поэме", оказывались теми ниточками, которые вытягивали целые пласты. Кто знает, открылась бы та часть петербургской гофманианы, которая была связана с "Бродячей собакой", если бы о ней не напомнила Ахматова ("Мы в "Собаку""), позаботившись дать к этому упоминанию разъяснительный комментарий, поскольку трезво представляла, что новым поколениям читателей такой комментарий необходим. Таким образом, можно определить две задачи "Поэмы", более чем значительные: 1) реформировать жанр поэмы; 2) восстановить "Петербург 10-х годов".
Однако при всей важности этих задач Ахматова не могла ими ограничиться. Оставляя в стороне жанровый эксперимент, можно было бы сказать, что за его пределами осталось сентиментальное или романтическое путешествие, выдержанное в пассеистических тонах. Нельзя забывать о времени, когда это писалось, о биографических обстоятельствах самой Ахматовой, о жизни, в которой основными категориями бытия оказывались память и совесть, единственное, что могло противостоять хаосу и царству Хама. У Ахматовой есть прямые поэтические высказывания о том времени, и прежде всего "Реквием". "Поэма" же является связующим звеном, гарантией сохранения Человека равным самому себе и запретом на забвение. "Это я, твоя старая совесть, / Разыскала сожженную повесть" - строки представляют собой как бы motto "Поэмы". Поэтому ее моралистичность и, в частности, полемика с тем, кто по косвенным и цитатным признакам опознается как Кузмин (но не отождествляется с ним однозначно), не относится к жанру литературной полемики. Персонаж, ставший олицетворением "беспамятности", тот, для кого "не было ничего святого", несет в себе разрушение. Задача же "Поэмы", и при этом самая главная, - этому разрушению не только противостоять, но самой стать средостением, связующим звеном, надеждой на восстановление.
И попутно с этими высокими целями Ахматова (или "Поэма") создала своего читателя-исследователя, оказавшись образцовым руководством по структуре текста (или образцовым полем для разработки и применения понятия интертекстуальности). В чем же состоял способ обучения, дидактический уровень "Поэмы"?
Как представляется, ключ надо искать в сочетании двух полюсов "Поэмы" - спонтанности ("Поэма", написанная под диктовку, Автор - аппарат, улавливающий нечто) и умышленности. В этом последнем случае мы вновь возвращаемся к бриколажу, то есть непрямому пути. Так же как в архетипической модели мира, бриколаж является основным и наиболее действенным способом обучения ориентировке в мире, освоения человека в пространстве и освоения человеком пространства, так же и в "Поэме" бриколаж оказывается не только основным конструктивным приемом (и естественно, художественным средством), но и наиболее действенным способом обучения.
"Поэма без героя" Анны Ахматовой - пример того, как текст обучает читателя, предполагает в читателе исследователя, заставляет его работать и при этом ставит ему пределы, но так, чтобы он стремился их перейти. Вновь и вновь обращаясь к "Поэме", мы одновременно и остаемся на одном и том же месте, и идем по пути, которому нет конца, пытаясь "поспеть за автором".
Список литературы
1. Мандельштам О. Египетская марка // Мандельштам О. Собр. соч.: В 4 т. М., 1991. Т. 2: Проза. С. 40.
2. Там же. С. 230-231.
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.akhmatova.org/
Ахматова без глянца Фокин Павел Евгеньевич
«Поэма без героя»
«Поэма без героя»
Анна Андреевна Ахматова:
Определить, когда она начала звучать во мне, невозможно. То ли это случилось, когда я стояла с моим спутником на Невском (после генеральной репетиции «Маскарада» 25 февраля 1917 года), а конница лавой неслась по мостовой, то ли… когда я стояла уже без моего спутника на Литейном мосту, в <то время> когда его неожиданно развели среди бела дня (случай беспрецедентный), чтобы пропустить к Смольному миноносцы для поддержки большевиков (25 октября 1917 года). Как знать?! <…>
…Я сразу услышала и увидела ее всю - какая она сейчас (кроме войны, разумеется), но понадобилось двадцать лет, чтобы из первого наброска выросла вся поэма.
На месяцы, на годы она закрывалась герметически, я забывала ее, я не любила ее, я внутренне боролась с ней. Работа над ней (когда она подпускала меня к себе) напоминала проявление пластинки. Там уже все были. Демон всегда был Блоком, Верстовой Столб Поэтом вообще, Поэтом с большой буквы (чем-то вроде Маяковского), и т. д. Характеры развивались, менялись, жизнь приводила новые действующие лица. Кто-то уходил. Борьба с читателем продолжалась все время. Помощь читателя (особенно в Ташкенте) тоже. Там мне казалось, что мы пишем ее все вместе.
Иногда она вся устремлялась в балет (два раза), и тогда ее было ничем не удержать. Я думала, что она там и останется навсегда. Я писала некое подобие балетного либретто, но потом она возвращалась и все шло по-старому. Первый росток (первый толчок), который я десятилетиями скрывала от себя самой, это, конечно, запись Пушкина: «Только первый любовник производит впечатление на женщину, как первый убитый на войне…» Всеволод (Князев. - Сост. ) был не первым убитым и никогда моим любовником не был, но его самоубийство было так похоже на другую катастрофу… что они навсегда слились для меня. Вторая картина, выхваченная прожектором памяти из мрака прошлого, это мы с Ольгой после похорон Блока, ищущие на Смоленском кладбище могилу Всеволода (1913). «Это где-то у стены», - сказала Ольга, но найти не могли. Я почему-то запомнила эту минуту навсегда.
Анатолий Генрихович Найман:
Ахматова начала писать Поэму в пятьдесят лет и писала до конца жизни. Во всех смыслах эта вещь занимала центральное место в ее творчестве, судьбе, биографии. Это была единственная ее цельная книга после пяти первых, т. е. после 1921 года, при этом не в одном ряду с ними, а их - как и все, что вообще написала Ахматова, включая самое Поэму, - покрывшая собою, включившая в себя.
Анна Андреевна Ахматова:
Я начала ее в Ленинграде (в мой самый урожайный 1940 год), продолжала в «Константинополе для бедных», который был для нее волшебной колыбелью, Ташкенте, потом в последний год войны опять в Фонтанном Доме, среди развалин моего города, в Москве и между сосенок Комарова. Рядом с ней, такой пестрой (несмотря на отсутствие красочных эпитетов) и тонущей в музыке, шел траурный Requiem, единственным аккомпанементом которого может быть только Тишина и редкие отдаленные удары похоронного звона. В Ташкенте у нее появилась еще одна попутчица - пьеса «Энума элиш» - одновременно шутовская и пророческая, от которой и пепла нет. Лирика ей не мешала, и она не вмешивалась в нее.
Галина Лонгиновна Козловская:
Нарушив молчание, она вдруг сказала: «Хотите, почитаю последние стихи?» И прочла нам пролог из «Поэмы без героя», начинающийся словами: «Из года сорокового, как с башни, на все гляжу».
Впечатление от пролога осталось навсегда.
И с этой ночи началось одно из самых удивительных событий нашей жизни. Судьбе было угодно одарить нас чудом, сделав свидетелями того, как в течение двух лет росла и творилась поэма.
С того новогоднего вечера Анна Андреевна стала приходить к нам часто. Иногда это бывало каждый день, иногда через 2–3 дня. И мы знали, что она спешит к нам, чтобы прочитать написанное и получить от нас отклик сердца.
Поэма росла и развивалась как дерево, прорастая все новыми побегами. Мы видели, как поэт ломает одно, заменяя другим, и поэма, разрастаясь, становилась все фантастичней, загадочней, призывно притягательной в своей энигматичности.
Многое в ней было непонятно. Иногда просто потому, что многие реалии были неведомы и не могли быть ведомы нашему поколению. Другое же вследствие того, что автор уходил в такие темные подземелья памяти, где только он один не шел на ощупь.
Ошеломляли неустанность творческого напряжения, появление и оттачивание все новых граней, форм. От одних эпиграфов захватывало дух и кружилась голова. Начиная от итальянского текста моцартовского Дон Жуана - «Смеяться перестанешь раньше, чем наступит заря» - и кончая Хемингуэем - «Я уверен, что с нами случится самое ужасное» - из «Прощай, оружие».
С годами их становилось все больше и больше. Сотни отблесков чужой мысли врастали в поэму. И мне кажется, что если бы собрать всю их многочисленность, то в своем множестве они выросли бы в поэму сами по себе.
Эдуард Григорьевич Бабаев:
Я переписывал по рукописям Анны Ахматовой ее «Поэму без героя» в тетрадь, которую называл «Моей антологией». Мне и сейчас кажется «ташкентский вариант» поэмы более совершенным и «чистым», чем его позднейшая версия, с дополнениями и пояснениями. Однажды я сказал об этом Анне Андреевне. Она кивнула и ответила, как мне показалось, с пониманием:
Все мои ташкентские друзья так считают…
Не могу утверждать, что тогда мне была ясна сама поэма. Но ветер, шевеливший листочки плюща за окном, казался мне ветром истории.
Нина Пушкарская, ташкентская поэтесса, услышав начало поэмы:
Из года сорокового,
Как с башни, на все гляжу, -
Это как набат!
Анна Андреевна согласилась. В некоторых списках поэмы, в том числе и в моей тетради, пролог имеет название «Набат». Но это название не удержалось.
Наталия Александровна Роскина:
В то время (1945 г. - Сост.) и, кстати, до конца дней на поэме были сосредоточены все интересы Ахматовой, все линии ее личной поэтической жизни. «Томашевский сказал мне, что о моей поэме он мог бы написать книгу». Томашевский - это было для нее много, очень много, она чрезвычайно ценила пушкинистов и честью для себя считала быть причисленной к их клану.
Сергей Васильевич Шервинский:
Один раз за все наше долгое знакомство у нас с Анной Андреевной возникло несогласие, довольно крупное. Она прочла мне, в раннем варианте, свою «Поэму без героя». Я потерялся в необычной для Ахматовой безудержной образности. На вопрос Анны Андреевны, как я понимаю поэму, я ответил каким-то смутным, головным построением, от которого тут же готов был отказаться. Поэма до меня «не дошла». Это не помешало Анне Андреевне потом читать мне поэму еще, с дополненными вставками. Затем я высказал суждение, уже не касавшееся поэтического приема. Я сказал всегда внимательному к моим замечаниям автору, что поэма, выросшая на основе трагического эпизода личной жизни, написана слишком по горячим следам. Отсюда и еще не совсем опоэтизированное, еще находящееся в состоянии кипения, жизненное, а не поэтически претворенное чувство. Анна Андреевна задумалась. Потом сказала, по-видимому не без горечи, несколько слов, из которых было ясно, что мое замечание, касавшееся самой сути произведения, не прошло мимо ее чуткости и ума. Впоследствии мы не возвращались больше к «Поэме без героя», но не раз, встречаясь со мною, Анна Андреевна говорила вскользь: «Ведь вы моей поэмы не любите…» Не могу скрыть, что она называла меня «лучшим слушателем».
Исайя Берлин:
Затем она прочла еще не оконченную в то время «Поэму без героя». Сохранились звукозаписи ее чтения, и я не буду пытаться описать его. Уже тогда я сознавал, что слушаю гениальное произведение. Не буду утверждать, что тогда я понимал эту многогранную и совершенно волшебную поэму с ее глубоко личными аллюзиями в большей степени, чем понимаю ее теперь. Ахматова не скрывала, что поэма была задумана как своего рода окончательный памятник ее жизни как поэта, памятник прошлому ее города - Петербурга, которое стало неотъемлемой частью ее личности, и - под видом святочной карнавальной процессии переодетых фигур в масках - памятник ее друзьям, их жизни и судьбам, памятник ее собственной судьбе, своего рода художественное «ныне отпущаеши», произнесенное перед неизбежным и уже близким концом. Строки о «Госте из будущего» еще не были написаны, как и третье посвящение. Это таинственная вещь, полная скрытого смысла. Курган научных комментариев неумолимо растет над поэмой. Скоро она, пожалуй, будет совсем погребена под ним. <…>
Я спросил ее, согласится ли она когда-нибудь дать комментарий к «Поэме без героя». Ее многочисленные аллюзии могут остаться непонятными для тех, кто не был знаком с жизнью, описываемой в поэме. Неужели она хочет, чтобы все это так и осталось неизвестным? Она ответила, что когда тех, кто знали мир, о котором написана поэма, настигнут дряхлость или смерть, поэма тоже должна будет умереть. Она будет погребена вместе с поэтом и ее веком. Она написана не для вечности и даже не для потомства. Для поэта единственное, что имеет значение, - это прошлое, а более всего - детство. Все поэты стремятся воспроизвести и заново пережить свое детство. Вещий дар, оды к будущему, даже замечательное послание Пушкина Чаадаеву - все это чистая декламация и риторика, попытка стать в величественную позу, устремив взгляд в слабо различимое будущее, - поза, которую она презирала.
Владимир Григорьевич Адмони:
Цельности многослойной душевной природы Ахматовой соответствовала и цельность в развитии ее духовного мира. Это развитие было необычайно органическим и было отмечено чрезвычайной устойчивостью. Ничего застывшего в Ахматовой не было. Она была крайне отзывчивой на все, что происходило в стране и мире. Поэзия Ахматовой была открыта всему колоссальному историческому опыту XX века. И в жизни, и в творчестве Ахматовой отчетливо вырисовывается несколько этапов. Но крайне существенно, что на переходе от одного этапа к другому прежний этап, прошлый период внутренней жизни Ахматовой не угасал в ней, а продолжал жить. Особенно прочными, особенно устойчивыми из периодов жизни Ахматовой были те, которые оказались самыми важными, решающими в годы ее молодости.
Это, прежде всего, зима 1913/1914 года, зима, которая принесла Ахматовой славу. Затем конец 10-х и начало 20-х годов - период, когда было создано столько новых ахматовских стихов, а жизнь Ахматовой была ознаменована тяжкими переломными событиями, когда умер Блок и был расстрелян Гумилёв. И когда жизнь Ахматовой стала до крайности горестной, в годы брака с В. К. Шилейко. Оценки людей и явлений искусства, которые сложились у Ахматовой в те годы, почти никогда не изменялись в последующие десятилетия. Пересматривала эти свои оценки она лишь изредка и неохотно. И память об этих, по сути дела, сформировавших ее периодах она хранила неотступно. Особенно тема «последней зимы перед войной», тема кануна Первой мировой войны, никогда не покидала Ахматову. Свое самое главное, самое сверкающее воплощение эта тема нашла в «Поэме без героя». Именно величайшая органичность этой темы для Ахматовой делает понятной и ту легкость, с которой Ахматова писала поэму (эту легкость Ахматова иногда называла колдовской), и владевшее Ахматовой ощущение, что поэма сама пришла к ней и как бы сама себя пишет, и постоянные возвращения к поэме, дополнения и вычеркивания, вообще переделки в течение свыше двадцати лет, с 1940 г. до начала шестидесятых годов. Как говорила Ахматова, поэма все это время не оставляла ее, заставляла все снова и снова к себе обращаться, хотя Ахматова не раз зарекалась и торжественно провозглашала, что больше к поэме никогда не притронется.
Живут в поэме и люди предвоенной эпохи, и ее атмосфера, вообще все то, что Ахматова так остро запомнила в канун первой глобальной катастрофы XX века. И кажется закономерным, что решающий толчок для создания поэмы Ахматова получила в канун нового эпохального и трагического события XX века, Великой Отечественной войны, в дни, когда Вторая мировая война уже началась. Сложная и неблагодарная задача подыскивать для каждого персонажа поэмы его конкретный прототип. Тем более что от варианта к варианту приметы многих персонажей меняются. И у них, несомненно, есть и общее, типическое значение. Но все же решусь утверждать, что в некоторых из этих персонажей, притом в самых главных из них, есть черты конкретные и устойчивые, притом те черты, которые восприняла Ахматова еще в дни, изображенные в поэме. Потому что характеристика этих людей в поэме полностью соответствует тому, как их очертила Ахматова в наших беседах первых лет знакомства и как рисовала их в беседах более поздних лет.
Особенно примечателен образ героини поэмы - Ольги Афанасьевны Глебовой-Судейкиной. Героини, потому что в «Поэме без героя» героя действительно нет, но героиня есть, вернее, даже две героини. Одна героиня сюжетная - актриса Глебова-Судейкина (в вводной ремарке ко второй главе сказано прямо: «Спальня Героини»), Другая, подлинно смысловая или, проще говоря, вообще подлинная героиня поэмы - изображенная в поэме эпоха.
Глебова-Судейкина, Оля, как называла ее Ахматова, показана в поэме, во всех ее вариантах, лишь слегка видоизменяясь, именно такой, какой она ожила чуть ли не во время нашей первой довоенной прогулки. Мы шли по Фонтанке, и, когда поравнялись с каким-то домом (не помню каким), Ахматова сказала: «А вот здесь мы жили с Олей», назвала год или годы, когда они здесь жили (даты я тоже не запомнил). И была поражена, что я не понимаю, о какой Оле идет речь, а затем еще более удивилась, узнав, что я вообще никогда не слыхал о Глебовой-Судейкиной. Она стала мне о ней рассказывать, и меня поразило сочетание восхищения и глубокой сопричастности с какой-то затаенной отчужденностью и горечью, которых сама Ахматова, наверное, даже не замечала. В «Поэме без героя» такая двойственность отношения Ахматовой к Глебовой-Судейкиной присутствует явственно. А в какой-то мере эта двойственность воспроизводит ту двойственность, которой окрашена оценка всей изображенной в поэме эпохи. В этом смысле обе героини поэмы даны в одном ракурсе, хотя акценты при показе каждой из них расставлены иные.
Анна Андреевна Ахматова:
Другое ее свойство: этот волшебный напиток, лиясь в сосуд, вдруг густеет и превращается в мою биографию, как бы увиденную кем-то во сне или в ряде зеркал («И я рада или не рада, что иду с тобой…»). Иногда я вижу ее всю сквозную, излучающую непонятный свет (похожий на свет белой ночи, когда все светится изнутри), распахиваются неожиданные галереи, ведущие в никуда, звучит второй шаг, эхо, считая себя самым главным, говорит свое, а не повторяет чужое, тени притворяются теми, кто их отбросил. Все двоится и троится вплоть до дна шкатулки.
И вдруг эта фата-моргана обрывается. На столе просто стихи, довольно изящные, искусные, дерзкие. Ни таинственного света, ни второго шага, ни взбунтовавшегося эха, ни теней, получивших отдельное бытие, и тогда я начинаю понимать, почему она оставляет холодными некоторых своих читателей. Это случается, главным образом, тогда, когда я читаю ее кому-нибудь, до кого она не доходит, и она, как бумеранг (прошу извинить за избитое сравнение), возвращается ко мне, но в каком виде (!?) и ранит меня самое.
Игнатий Михайлович Ивановский:
О своей любимой «Поэме без героя» она говорила, задумавшись, глядя сквозь стены и поверх голов:
И в этом слове слышалась как бы далекая жалоба, даже отголосок отчаяния. Уж очень неотступно преследовала Ахматову ее поэма.
Анна Андреевна Ахматова:
Поэма опять двоится. Все время звучит второй шаг. Что-то идущее рядом, другой текст, и не понять, где голос, где эхо и которая тень другой, поэтому она так вместительна, чтобы не сказать бездонна. Никогда еще брошенный в нее факел не осветил ее дна. Я как дождь влетаю в самые узкие щелочки, расширяю их - так появляются новые строфы. За словами мне порой чудится петербургский период русской истории:
Да будет пусто место сие, -
дальше Суздаль, Покровский монастырь, Евдокия Федоровна Лопухина. Петербургские ужасы: смерть Петра, Павла, дуэль Пушкина, наводнение, блокада. Все это должно звучать в еще не существующей музыке. Опять декабрь, опять она стучится в мою дверь и клянется, что это в последний раз. Опять я вижу ее в пустом зеркале.
Лидия Корнеевна Чуковская:
8 мая 1954. …Поспешно, без обычных расспросов и пауз, вынула из чемоданчика экземпляр «Поэмы» (на машинке и в переплете) и стала читать мне новые куски. Читала она одни только вставки - строки, строфы, - быстро переворачивая страницы и мельком указывая, куда вставляется новое, - а я, от боязни, что не пойму и не запомню куда, - вообще ничего не расслышала и ничего не запомнила. На обратном пути проверяла, теперь проверяю - ни строки.
«1913 год» стал называться «Петербургская повесть».
Как долго она вас не отпускает! - сказала я.
Нет, тут другое. Сейчас я ее не отпускаю. Я пыталась рассказать все, что за этим вижу. Оказывается, вижу только я. Ну, может быть, вы. Теперь пусть видят все… А то Лидин ходит и толкует бог знает как. Пусть теперь ему говорят: «Ничего там такого нету, вам надо лечиться…
«Эмма Григорьевна Герштейн:
Повышенный интерес к рукописи «Поэмы без героя» - именно к рукописи - не покидал Ахматову в течение многих последующих лет. Безмерно страдая от невозможности напечатать свое любимое детище полностью, Анна Андреевна тиражировала его во множестве машинописных экземпляров. Она изобрела особенное графическое расположение отдельных кусков текста, утвердив надолго систему разных виньеток, начертаний эпиграфов и собственноручных надписей. Отдельные экземпляры она дарила не только друзьям и знакомым, но и незнакомым, мнение которых о «Поэме…» она хотела бы услышать. Даже дарственные надписи на этих экземплярах были стандартизированы. «Дано такому-то (инициалы) в такой-то день такого-то месяца и года, Москва или Ленинград».
Вячеслав Всеволодович Иванов:
В конце пятидесятых годов, когда все время редактировалась и дописывалась «Поэма без героя», Ахматова спрашивала у каждого, кто ее прочитал, его суждение. Потом некоторые из чужих критических оценок она пересказывала и сопоставляла.
Анна Андреевна Ахматова:
Просто люди с улицы приходят и жалуются, что их измучила Поэма. И мне приходит в голову, что мне ее действительно кто-то продиктовал, причем приберег лучшие строфы под конец. Особенно меня убеждает в этом та демонская легкость, с которой я писала Поэму: редчайшие рифмы просто висели на кончике карандаша, сложнейшие повороты сами выступали из бумаги.
Анатолий Генрихович Найман:
Ахматова собирала мнения о Поэме, сама писала о ней, будущая судьба Поэмы ее волновала, она опасалась, что текст слишком герметичен или представляется таким. Рассказывала, что одна поклонница, декламировавшая стихи с эстрады, спросила у нее: «Говорят, вы написали поэму без чего-то? Я хочу это читать». С промежутком в два года она дала мне два ее варианта, оба раза подробно расспрашивала о впечатлении. Ища место для новых строф, вписывая или, наоборот, вычеркивая их, проверяла, естественно ли, убедительно ли, неожиданно ли ее решение. После одной такой беседы предложила сделать статью из всего, что я говорил о Поэме. Мне же казалось тогда, что статья должна быть фундаментальной, а мои заметки фрагментарны, но все же года через полтора я все собрал и что-то написал, поутратив свежих мыслей и не преуспев в фундаментальности. В частности, я описывал тогда строфу Поэмы: «Первая ее строка, например, привлекает внимание, заинтересовывает; вторая - окончательно увлекает, третья - пугает; четвертая - оставляет перед бездной; пятая одаряет блаженством, и шестая, исчерпывая все оставшиеся возможности, заключает строфу. Но следующая начинает все сначала, и это тем более поразительно, что Ахматова - признанный мастер короткого стихотворения». Уже после ее смерти выяснилось, что она записала это мое наблюдение в самый день нашего разговора, и вот в каких словах: «Еще о Поэме. Икс-Игрек сказал сегодня, что для поэмы всего характернее следующее: еще первая строка строфы вызывает, скажем, изумление, вторая - желание спорить, третья - куда-то завлекает, четвертая - пугает, пятая - глубоко умиляет, а шестая - дарит последний покой, или сладостное удовлетворение, читатель меньше всего ждет, что в следующей строфе для него уготовано опять только что перечисленное. Такого о поэме я еще не слыхала. Это открывает какую-то новую ее сторону».
Лидия Корнеевна Чуковская:
16 июня Пересказала мнение Шервинского о «Поэме», по-моему, совершенно ошибочное. Это, якобы, не поэма, а цепь отдельных лирических стихотворений. Неверно, никаких отдельных стихотворений тут нет. Второе: это старомодно, десятые годы. Неверно, тут только по материалу - десятые годы, а сама «Поэма» оглушительно нова, в такой степени нова, что неизвестно, поэма ли это; и нова не для одной лишь поэзии Анны Ахматовой, а для русской поэзии вообще. (Может быть, и для мировой; я судить не могу, я слишком невежественна.) Тут все впервые: и композиция, создающая некую новую форму, и строфа, и самое отношение к слову: акмеистическим - точным, конкретным, вещным словом Ахматова воспроизводит потустороннее, духовное, отвлеченное, таинственное. Конечно, это свойство всегда было присуще поэзии Ахматовой, но в «Поэме» оно приобрело новое качество. Острое чувство истории, тоже всегда присущее поэзии Ахматовой, тут празднует свое торжество. Это праздник памяти, пир памяти. А что память человека нашей эпохи набита мертвецами - вполне естественно: поколение Ахматовой пережило 1914, 1917. 1937, 1941 и проч., и т. п. История пережита автором интимно, лично - вот в чем главная сила «Поэмы». Тут и те, кто погиб в предчувствии гибели, - самоубийца Князев, например («Сколько гибелей шло к поэту, / Глупый мальчик, он выбрал эту… <…> Не в проклятых Мазурских болотах, / Не на синих Карпатских высотах…»). В «Поэме» не вообще мертвые - убитые, замученные, расстрелянные - а ее мертвые, те, что когда-то делали живой ее жизнь, герои ее лирических стихов. Но это вовсе не превращает «Поэму» в цепь лирических стихотворений, как полагает Шервинский. Это только пропитывает эпос лирикой, делает «Поэму» лирико-эпической, бездонно глубокой, хватающей за душу. «У шкатулки ж двойное дно» - а какое дно у памяти? четверное? семерное? не знаю, память бездонна, поглядишь - голова закружится.
Корней Иванович Чуковский:
30 июня 1955. Ахматова приехала ко мне в тот самый день, когда в СССР прилетел Неру Так как Можайское шоссе было заполнено встречавшим его народом, всякое движение в сторону Переделкина было прекращено. Перед нами встала стена милиционеров, повторявших одно слово: назад. Между тем в машине сидит очень усталая, истомленная Ахматова, которую мне так хочется вывезти из духоты на природу…
Ахматова была, как всегда, очень проста, добродушна и в то же время королевственна. Вскоре я понял, что приехала она не ради свежего воздуха, а исключительно из-за своей поэмы. Очевидно, в ее трагической, мучительной жизни поэма - единственный просвет, единственная иллюзия счастья. Она приехала - говорить о поэме, услышать похвалу поэме, временно пожить своей поэмой. Ей отвратительно думать, что содержание поэмы ускользает от многих читателей, она стоит за то, что поэма совершенно понятна, хотя для большинства она - тарабарщина… Ахматова делит мир на две неравные части: на тех, кто понимает поэму, и тех, кто не понимает ее.
Анатолий Генрихович Найман:
Поэма была для Ахматовой, как «Онегин» для Пушкина, сводом всех тем, сюжетов, принципов и критериев ее поэзии. По ней, как по каталогу, можно искать чуть ли не отдельные ее стихотворения. Начавшись обзором пережитого - а стало быть, написанного, - она сразу взяла на себя функцию учетно-отчетного гроссбуха - или электронной памяти современных ЭВМ, - где, определенным образом перекодированные, «отмечались» «Реквием», «Ветер войны», «Шиповник цветет», «Полночные стихи», «Пролог», словом, все крупные циклы и некоторые из вещей, стоящие особняком, равно как и вся ахматовская пушкиниана. Попутно Ахматова совершенно сознательно вела Поэму и в духе беспристрастной летописи событий, возможно, осуществляя таким своеобразным способом пушкинско-карамзинскую миссию поэта-историографа.
ВСТРЕЧА. Поэма 1. Царское Село В невнятном свете фонаря, Стекло и воздух серебря, Снежинки вьются. Очень чисто Дорожка убрана. Скамья И бледный профиль гимназиста. Odi profanum… Это я. Не помню первого свиданья, Но помню эту тишину, О, первый холод мирозданья, О, пробуждение
I. «Во мне слагается поэма…» «Во мне слагается поэма» Под шумный хор лесов и вод, И всё, что в грудь стучалось немо, Я чую, голос обретет. Мечты взвиваются, как крылья, От мавзолеев и гробниц, И вся душа – одно усилье Лететь на воле без границ. 3 февраля
Поэма «Пугачев» Возвратившись из Туркестана, С. Есенин продолжал работать над поэмой «Пугачев», которую в июне прочитал в «Стойле Пегаса». Пришлось не только зачитать текст поэмы, но и изложить присутствующим режиссерам, артистам и публике свою точку зрения на
Поэма в рукописи Н. В. Гоголь – С. Т. Аксакову Рим, 28 дек. 1840 г.…Я теперь приготовляю к совершенной очистке первый том «Мертвых Душ». Переменяю, перечищаю, многое перерабатываю вовсе и вижу, что их печатание не может обойтись без моего присутствия. Между тем дальнейшее
IV ПОЭМА О ПЕТРЕ Весь период процесса о «Гавриилиаде» Пушкин провел безвыездно в Петербурге. Разгром передового дворянства и вольных объединений в 1826 году совершенно видоизменил облик столицы. Из собеседников своей молодости Пушкин здесь уже почти никого не застал:
1. Поэма «Хлеб» Этот год был насыщен поездками, выступлениями, творческими переживаниями. Алексей Иванович ждал приближения сорокалетия, как чего-то мистического. Он говорил друзьям, что с сорока лет прекратит сочинять песни и займется только поэмами. И вот этот возраст
Фотоциклетная поэма Последняя поэма в жизни Вознесенского написана в январе 2010 года. «До свидания, Тедди Кеннеди». Хотя посвящена она скорее Жаклин, нежели Эдварду Кеннеди и его братьям.Поэма фотоциклетная. Сколько мотоциклов пронеслось в его стихотворениях - теперь
Новая поэма 1920 год биографы Маяковского описывают по-разному. Виктор Шкловский, например, уделил внимание довольно мелкому бытовому событию – бритью, для которого Владимир Владимирович брал бритву «жилет» у соседей:«Идёт, позвонит, побреется и вернёт.Но бритвы
XV «Университетская поэма» В конце 1926 года Набоков пишет «Университетскую поэму» - 882 стиха, 63 строфы по 14 строк66. Главным предметом исследования в поэме представляется одиночество, будь то одиночество эмигранта, студента или старой девы.Виолетте всего двадцать семь лет,