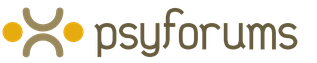Преходящее и вечное в художественном мире тургенева. Временное и вечное в нашей жизни сочинение Временное и вечное в романах тургенева
К 200-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ И. С. ТУРГЕНЕВА
УДК 821.161.1-31 (Тургенев И. С.)
ББК Ш33(2Рос=Рус)522-8,444 ГСНТИ 17.07.29 Код ВАК 10.01.01
И. А. Беляева
Москва, Россия
«ОТЦЫ И ДЕТИ» И. С. ТУРГЕНЕВА: РОМАН О «ВЕЧНОМ ПРИМИРЕНИИ»
Аннотация. В статье предлагается один из вариантов прочтения самого известного романа Тургенева в свете смыслового кода, который задан самим писателем и зафиксирован в последних строках произведения. Это цитата из заупокойного песнопения «Со святыми упокой», где есть слова о «вечном примирении». «Вечное примирение» рассматривается в статье не только как явная примета диалектики жизни, предполагающей ее спокойное и равнодушное ко всему человеческому течение, но и как проявление живого и сердечного участия людей друг в друге, обусловленное их Богоприродностью. Показано, как в романе реализуется художественный принцип: ситуация не встречи (расхождения) сменяется встречей (соединением), в том числе на композиционном уровне. По принципу встречи и не встречи организована система отношений всех отцов и детей, тем более что в роли первых могут выступать как реальные родители, так и те персонажи, которые самостоятельно возлагают на себя такую функцию-ответственность, или же чье «отцовство» или «сыновство» есть знак принадлежности к разным поколениям или мировоззрениям. В статье выявляется, что диалектика жизненных противоречий синтезируется, или примиряется любовью, а в ее основе лежит отеческая - в широком смысле этого слова - забота, попечение о детях, молитва за них и благословление, невзирая на то, плохи они или хороши. Доказывается, что непреходящее значение романа «Отцы и дети» и его актуальность обусловлены художественным открытием Тургенева, ключевой смысл которого заключался в обнаружении единства и связей в том, что, казалось бы, разъединено и расколото безвозвратно.
Ключевые слова: русская литература; русские писатели; анализ художественного произведения; литературное творчество; реминисценция.
TURGENEV"S «FATHERS AND SONS»: A NOVEL ABOUT «ETERNAL RECONCILIATION»
Abstract. The article proposes one of the options for reading the most famous novel by Turgenev in the light of the semantic code, which is set by the writer himself and is fixed in the last lines of the work. This is a quote from the funeral hymn «With the Holy Rest in Peace», where there are words about «eternal reconciliation». The «eternal reconciliation» is considered in the article not only as an obvious sign of the dialectic of life, suggesting its calm and indifferent current to all human, but also as a manifestation of the living and cordial participation of people in each other, conditioned by their God-nature. It is shown how the artistic principle is realized in the novel: the situation of no meeting (divergence) is replaced by a meeting (connection), including at the compositional level. On the principle of meeting and not meeting the system of relations between all fathers and children is organized, the more so that in the role of the first can be both real parents and those characters who independently assume such a responsibility function, or whose «fatherhood» or «sonship» is a sign of belonging to different generations or worldviews. The article reveals that the dialectic of life"s contradictions is synthesized, or reconciled by love, and it is based on the fatherly - in the broadest sense of the word - care, custody of children, prayer for them and blessing, regardless of whether they are good or bad. It is proved that the lasting value of the novel «Fathers and Sons» and its relevance are due to Turgenev"s artistic discovery, the key meaning of which was the discovery of unity and ties in what seemed to be disconnected and split irrevocably.
Keywords: Russian literature; Russian writers; literature analysis; creative writing; reminiscence.
Многие тексты И. С. Тургенева отличает одна черта, которая пока еще не была отмечена учеными как особенная закономерность тургеневских концовок. В финале романов и повестей, как правило, звучит важная фраза, на которой читатель должен задержаться, осмыслить ее, а потом, вероятно, и «перепрочитать» произведение ввиду обдуманного. В качестве такой ударной концовки Тургенев нередко выбирает цитаты, иногда явные, иногда скрытые, даже порой с трудом узнаваемые, из известных книг. Это может быть, например, «Божественная Комедия» Данте, как в случае с романом «Дворянское гнездо», на что справедливо обратила внимание Т. Б. Трофимова [Трофимова 2004 (1); Трофимова 2004 (2)], или Библия, к которой восходят слова о «бесприютных скитальцах» в романе «Рудин» (до доработки эпилога, где представлен герой на баррикадах Парижа), или цитата из «Евгения Онегина», как в «Дыме» и др. В романе «Отцы и дети»
заключительные слова «о вечном примирении и о жизни бесконечной» [Тургенев 1981 (2): 188], как установили комментаторы к ПССиП (2), восходят к заупокойному песнопению «Со святыми упокой...» [см.: Тургенев 1981 (2): 469]. Прочтение «Отцов и детей» - этого самого известного романа Тургенева - в предложенной самим Тургеневым системе координат представляется нам как нельзя насущным и актуальным в настоящее время и может разворачиваться как на уровне духовно-религиозном, так и на социальном и общечеловеческом, не предполагая между ними непроходимых границ.
Современному читателю романа Тургенева приходится сталкиваться с прочными стереотипами, которые сложились к настоящему времени в восприятии этого текста. Правда, эти стереотипы нельзя рассматривать как явление исключительно негативное, ведь в них не только закреплено видение и понимание конкретного произведения той или иной
эпохой, но и аккумулирована часть истории и смысла самого текста. Роман «Отцы и дети» нередко и, подчеркнем, небезосновательно трактуется как книга, в которой отражен социально-исторический конфликт, возникший между отцами и детьми, либералами и демократами, дворянами и разночинцами, достигший своей остроты к началу 1860-х годов, подчеркивается и пристальное внимание Тургенева к судьбе русского дворянства, а также к будущему русской демократической мысли. Образ Базарова интерпретируется в свете борьбы идей и мировоззрений, как фигура непременно трагическая, явившаяся в России преждевременно и в тот момент не нужная. Все эти стратегии понимания тургеневского текста имеют под собой основания и во многом справедливы, но с единственной оговоркой: современного читателя роман Тургенева едва ли завораживает своей историко-культурной и социальной конкретикой, хотя «Отцы и дети» можно рассматривать как интереснейший источник нашего знания о том времени. Но все же сейчас очевидно, что магическое обаяние этого текста связано с чем-то другим. Это «другое» оказывается той самой важной гранью смысла тургеневского романа, вневременного и «злободневного» для любых эпох и поколений, что транслируется этим текстом в большом времени и небезосновательно выделяет его из всего творческого наследия писателя.
Непреходящая актуальность «Отцов и детей» заключается в том, что в этой книге обнаруживается важнейший закон «вечного примирения», или внутренняя логика согласования любых противоречий - социальных, исторических, природных и проч. - без какого-либо противоестественного их разрешения. В тургеневском романе, с присущей этому жанру всеохватностью, на разных уровнях и в разных сферах воссоздания быта и бытия действует единый для всех и вся механизм сцеплений разнородных и подчас противоречивых явлений и процессов, неизбежно пронизывающих индивидуальное пространство человека, общество, историю, природу. Эти сцепления разнородностей, соединение, казалось бы, несоединимых вещей, на самом деле, как показывает Тургенев, образуют основу жизни, а потому они универсальны для любой эпохи и едва ли не для любой культуры. Однако именно жизненный материал второй половины 1850-х - начала 1860-х годов, когда накал противоречий в русском обществе достиг критической отметки и предчувствовалось возможное катастрофическое развитие событий в будущем, позволил писателю так полновесно представить свое художественное открытие, ключевой смысл которого заключался в обнаружении единства и связей в том, что, казалось бы, разъединено и расколото безвозвратно.
Тургенева в свое время привлекло натурфилософское наблюдение Гете из его «афористической статьи» под названием «Природа» («Die Natur», 1782 или 1783)1. Тургенев процитирует их в соб-
1 Этот текст относится к числу «записанных за Гете». В 1780-е годы высказанные Гете мысли зафиксировал
ственном переводе в рецензии на книгу С. Т. Аксакова «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» (1852), а затем и в письме к самому автору «Записок...»2, чтобы сформулировать свои взгляды на единство природной жизни: «Природа проводит бездны между всеми существами, и все они стремятся поглотить друг друга. Она всё разъединяет, чтобы все соединить...»3 [Тургенев 1980: 517]. Вслед за Гете Тургенев отмечает, что единство рождается как бы вопреки, из неизбежного «разъединения и раздробления» отдельных частей, что составляет неизменную «"открытую" тайну» «мировой жизни» и не перестает удивлять человека.
Соглашаясь с Гете, Тургенев, однако, лишь констатирует парадоксальность и загадочную необъяснимость факта разъединения и соединения всего, что существует в природе, хотя и вспоминает указанный Гете источник этой целостности. «Ее венец - любовь, - цитирует Тургенев немецкого поэта. - Только через любовь можно к ней (к природе. - И. Б.) приблизиться.» Но, анализируя книгу С. Т. Аксакова, Тургенев приходит к выводу, что вечная мудрость природы состоит как раз в том, что она никогда не предпочитает силы разъединяющие силам соединяющим и из всего разнородного спокойно и равнодушно рождает «общую, бесконечную гармонию» [Тургенев 1980: 517]. Любви там нет. И вопрос, «как из этого разъединения и раздробления, в котором, кажется, всё живет только для себя, - как выходит именно та общая, бесконечная гармония» [Тургенев 1980: 517], так и остается для Тургенева открытым.
Диалектика разъединений и соединений Тургенева всегда волновала. В той или иной вариации он обращался к полюбившимся ему натурфилософским идеям Гете в своих сочинениях - «Поездка в Полесье», «Призраки», «Довольно», во многих миниатюрах из «Стихотворений в прозе» и др. Можно даже сказать, что она скрытым лейтмотивом звучит у Тургенева во всех его сочинениях и может по-разному разрешаться художественно. Роман «Отцы и дети» - не исключение. Написанный почти десятью годами позже вышеупомянутой рецензии на книгу С. Т. Аксакова роман «Отцы и дети» правомерно рассматривать как художественно-философскую вариацию любимой тургеневской мысли о внутреннем единстве уже не столько самой природы, сколько жизни в целом и всех ее сфер, несмотря на действующие там силы разъединения.
В романе Тургенева определены опорные точки расхождений, неизбежных для современного человека и общества, но предложен и конкретный путь преодоления даже самых решительных противоречий, что, однако, не отменяет объективности и неизбежности его существования. Полем, на котором разворачивается эта закономерность жизни,
священник Тоблер. Гете считал это сочинение своим и публиковал в собрании своих работ [см.: Гете 1964: 497].
3 Перевод «Природы» Гете в 1845 году осуществил А. И. Герцен. В современных изданиях философской прозы Гете публикуется именно он.
стала российская действительность 1860-х годов. Философская умозрительность в романе справедливо обретает художественную плоть образа, а потому живую и понятную для читательского восприятия доступность. Главный герой - представитель ниги-
листов, или новых мировоззренчески и социально людей, в то же время обнаруживающий в себе универсальные свойства человека «новейшего времени» Фауста, как определял героя Гете Тургенев [см.: Беляева 2011: 254-278]. В центре извечного философского вопроса о возможности примирения крайних начал оказывается современный человек - его существование в мире представляет своего рода энергетическое поле, которое пронизано токами притяжений и отталкиваний.
И вот Тургенева интересуют механизмы противоречий и сцеплений, которые возникают внутри связей-отношений одного человека - с другим человеком, с его родными и близкими, с обществом, с социальной средой, с природой, с самим собой, наконец, а на вершине этой парадигмы и с Богом. И оказывается, что на всех этих уровнях действуют силы разъединяющие и соединяющие. В художественной картине мира «Отцов и детей» эта диалектика жизни, постоянные и неизбежные разъединения и соединения, художественно выражается по-разному, в том числе жестами встреч (объятия, рукопожатия, поцелуи и т.п.) и не встреч (нежелание обнять другого, подать руку, поцеловать и т.п.). Подобный диалектический принцип лежит в основе композиционной организации как романа в целом, так и отдельных его сцен, не говоря уже о структуре романного образа.
В «Отцах и детях» Тургенева подобных жестов - встреч (соединения) и не встреч (разъединения) много. В этой парадигме можно описать взаимоотношения Базарова и Фенечки, Базарова и Одинцовой, Аркадия и Кати, Николая Петровича и Фенечки, Павла Петровича и Фенечки, Павла Петровича и княгини Р. и др. По принципу встречи и не встречи организована система отношений всех отцов и детей, поскольку в роли первых могут выступать как реальные родители, так и те персонажи, которые самостоятельно возлагают на себя такую функцию-ответственность (Анна Сергеевна Одинцова по отношению к своей сестре Кате), или же чье «отцовство» или «сыновство» есть знак принадлежности к разным поколениям или мировоззрениям.
Но из всех многочисленных сцен встреч и свиданий мы бы выделили те, где родители встречают своих детей, причем делают они это чаще, чем провожают. Позиция встреч оказывается сильнее. Роман открывается встречей отца Николая Петровича Кирсанова со своим сыном Аркадием, заканчивается - тоже «встречей»: родители Базарова приходят на могилу к сыну. Они молятся о нем и заботятся о
4 В недавней статье С. И. Кормилова убедительно
доказывается, что Базаров, психологически и ментально ощущающий себя разночинцем, вовсе не принадлежит к этому сословию, а является дворянином [См.: Кормилов 2013]. Однако сам себя он не соотносит с дворянством, разночинство - это его образ жизни, мысли и поведения.
его жизни посмертной. Такая зеркальность композиционного решения, конечно, не случайна, она свидетельствует об особой значимости позиции встречи / схождения в изображенной Тургеневым диалектике жизни. Так отзывается в обычной повседневности человеческих дел, радостей и горестей основное положение немецкой философской мысли, где его очень трудно «опознать» в его чистом, спекулятивном звучании.
Тургенев тонко и глубоко проникает во внутренние токи сближений и отталкиваний. У него даже сама ситуация встречи таит в себе элементы расхождений и противоречий. Так, Николай Петрович, ожидающий Аркадия, кажется «встревоженнее своего сына», «робеет» и «теряется» перед ним, и не только потому, что долго его не видел или в чем-то виноват перед ним [Тургенев 1981 (2): 11], просто подспудно возникает какая-то дистанция - действует разъединение. А сын испытывает чувство «снисходительной нежности к доброму и мягкому отцу», которая, однако, смешана «с ощущением какого-то тайного превосходства» [Тургенев 1981 (2): 15]. Очевиден некий разлад внутри одной конкретной семьи. Но при первой встрече, что символично, отец сразу горячо обнимает и целует сына: «- Ар-каша! Аркаша! - закричал Кирсанов, и побежал, и замахал руками... Несколько мгновений спустя его губы уже прильнули к безбородой, запыленной и загорелой щеке молодого кандидата» [Тургенев 1981 (2): 10]. И сын, в свою очередь, не отмахнулся от отца, хотя и испытывал некоторую неловкость ввиду присутствия Базарова, но «весело» ответил «на отцовские ласки». Базарову Николай Петрович «крепко стиснул его обнаженную красную руку, которую тот не сразу ему подал» [Тургенев 1981 (2): 11]. И это, безусловно, настораживающий знак «разъединения» и отдаленности молодого поколения от отцов. Таким образом, начальный эпизод романа - встреча Николая Петровича с сыном и с его другом - пронизана разнонаправленными силами: есть место как разладу, так и соединению.
Разъединение дает о себе знать в отношениях между представителем отцов Павлом Петровичем Кирсановым и Базаровым. Однако динамика общения героев с очевидностью выстраивается от памятного нерукопожатия при первой встрече - «Павел Петрович слегка наклонил свой гибкий стан и слегка улыбнулся, но руки не подал и даже положил ее обратно в карман» [Тургенев 1981 (2): 19] - до сложного для обоих рукопожатия в конце: «Узнав об отъезде Базарова, Павел Петрович пожелал его видеть и пожал ему руку» [Тургенев 1981 (2): 149]. И пусть этот жест расценивается Базаровым как желание со стороны Павла Петровича «повеликодуш-ничать», хотя на самом деле он остается «холоден как лед» [Тургенев 1981 (2): 149], тем не менее какая-то непреодолимая ранее граница в итоге оказывается преодолена.
В этой связи показательной может быть и сама дуэль между Базаровым и Кирсановым-старшим - как знак крайней, кульминационной точки разлада, когда противники стоят друг против друга, но при этом сходятся / соединяются в поединке. Символи-
чески любая дуэль обнаруживает диалектику крайней разобщенности, полного разрыва, вплоть до сознательного желания дуэлянтами принять скорую смерть или убить своего врага, но в то же время подразумевает сближение5 и даже примирение (одна из обязанностей секундантов - предложить противникам мир до поединка). Но в русской литературной традиции дуэли редко заканчивались миром, во всяком случае, до тургеневских «Отцов и детей». У самого писателя есть повесть «Бретёр» (1847), где, казалось бы, ничто не подразумевало катастрофы, что случится между двумя очень непохожими приятелями (тоже диалектика). Надежда на примирение была, не случайно ведь бретер Лучков и добрый Кистер сблизились когда-то, но все завершается крайним разладом.
В «Отцах и детях» ситуация развивается иначе. Уже тот факт, что Павлу Петровичу приходит в голову мысль вызвать на дуэль Базарова, свидетельствует о желании представителей отцов начать оценивать свои с детьми взаимоотношения в одной системе координат. И тут даже не очень важно, дворянин Базаров или нет, хотя он именно дворянин и значит ничто не мешало Кирсанову-старшему требовать поединка. Изначально читателю трудно предположить, что герои сойдутся у барьера, поскольку для времени, когда разворачивается романное действие, сама дуэль представляется чем-то архаическим. Но, тем не менее, они сходятся - вот, по нашему мнению, одно из парадоксальных свидетельств действия сил соединения, которые проявляются в этой дуэли. Примечательно также, что Базаров как теоретик противоречит себе как практику во взгляде на дуэль и принимает вызов Павла Петровича даже несмотря на то, что умозрительно считает ее «нелепостью». А ведь это значит, что Базаров понимает и отчасти принимает мотивацию своего соперника. Причина поединка не так однозначна, как об этом говорит Павел Петрович Базарову: «Вы, на мой вкус, здесь лишний; я вас терпеть не могу, я вас презираю, и если вам этого не довольно...» [Тургенев 1981 (2): 140], поскольку тут замешена Фенечка, а глубинно и память о княгине Р., на которую первая похожа. Однако констатация Павлом Петровичем своей крайней ненависти к Базарову и одновременно желание поставить своего противника на одну планку с собой - сигнал, говорящий о сближении, поскольку уравнивает этих антагонистов у барьера. Даже выстрел и ранение Павла Петровича не означают разрыва, но оказываются чреваты расположением, участием недавних противников друг в друге, о чем говорит врачебная помощь Базарова раненому Кирсанову. В итоге дуэль заканчивается милосердным жестом со стороны Базарова, который был оценен Павлом Петровичем, и финальным рукопожатием обоих. Да и в целом эти два героя, как неодно-
5 «"Теперь сходитесь". / Хладнокровно, / Еще не целя, два врага / Походкой твердой, тихо, ровно / Четыре перешли шага»: [Пушкин 1978: 114]. В этом отрывке из «Евгения Онегина» само сближение дуэлянтов означает одновременно противоположную крайность - желание убить соперника, отсюда холодность и видимое равнодушие.
кратно и убедительно писали исследователи, не столько далеки, сколько близки типологически 6 Удивительный пример единства крайностей и соединения, казалось бы, непримиримых характеров.
Встречают и провожают своего сына старички Базаровы, столь далекие в психологическом и в человеческом смысле от своего сына, что у читателя может даже возникнуть вопрос, как у таких простых родителей может быть такой непростой сын. Уж скорее на ту роль - по масштабу личности - подходит бездетный Павел Петрович. Но глубокая соединенность родителей с сыном, вроде бы на первый взгляд и не очень близких друг другу, дает о себе знать при первом их свидании после долгой разлуки. Это происходит, несмотря на доводы народной мудрости, к которым прибегает Арина Власьевна, уверяющая себя и супруга в том, что «сын - отрезанный ломоть», что он как «сокол: захотел - прилетел, захотел - улетел» [Тургенев 1981 (2): 128].
Эмоциональное состояние отца Базарова при встрече с сыном передано значимой деталью: «чубук так и прыгал у него между пальцами». Отец не может преодолеть свое естественное родительское желание обнять сына, хотя и говорит об этом не без иронии и смущения: «Ну, вылезай, вылезай, почеломкаемся» [Тургенев 1981 (2): 106]. Материнская любовь Арины Власьевны также выражается естественным объятием: «"Енюшка, Енюша", - раздался трепещущий женский голос. Дверь распахнулась, и на пороге показалась кругленькая, низенькая старушка в белом чепце и короткой пестрой кофточке. Она ахнула, пошатнулась и наверно бы упала, если бы Базаров не поддержал ее. Пухлые ее ручки мгновенно обвились вокруг его шеи, голова прижалась к его груди, и всё замолкло. Только слышались ее прерывистые всхлипыванья» [Тургенев 1981 (2): 106]. Вот это движение к сыну, даже несмотря на внешнюю холодность и какую-то демонстративную разобщенность его с родителями - Базарову неуютно дома, ему все время хочется из него уехать, он не понимает жизни «старичков»: «они вот, мои родители то есть, заняты и не беспокоятся о собственном ничтожестве, оно им не смердит... а я... я чувствую только скуку да злость» [Тургенев 1981
6 Ср. наблюдения В. А. Недзвецкого, высказанные им в ряде последних работ по истории русской литературы 40-60-х годов XIX века, «курсах лекций» и статьях о Тургеневе: «И тут обнаружилось, что непримиримость миропонимания Павла Кирсанова и Базарова («Впрочем, - заявлял перед поединком первый из них, - мы друг друга понять не можем; я по крайней мере не имею чести вас понимать») не мешает им сближаться и объединяться психологически - в качестве личностей)); «О прошлом вспоминать незачем», - считает со своей стороны и Базаров, как бы констатируя этим объективное типологическое сродство с Кирсановым-старшим, которое выявилось былым оппонентам в результате дуэли»; «Так центральные мужские персонажи "Отцов и детей", противники-антиподы в пределах конфликта преходящего, оказывались - с завершением их коллизии с мирозданием - людьми, в сущности, наиболее друг другу близкими - собратьями по судьбе» [Недзвецкий 2008: 110, 111].
(2): 119] - возможно, изначально предопределяет его небесследное, если так можно сказать, исчезновение по окончании земного пути. Базаров и в смерти не уходит в пустоту, а в «жизнь бесконечную» [Тургенев 1981 (2): 188] во многом потому, что его родители своей любовью и слезами отмаливают его у пустозвенящей вечности. Да и разобщенность его с родителями едва ли не нечто напускное. Изначальная эмоциональная скупость Базарова по отношению к родителям оборачивается щемящей любовью и заботой в крайней (эсхатологической) для всех ситуации, ввиду встречи со смертью, которая и обнажает истинное положение дел. О матери он скажет: «Бедная! Кого-то она будет кормить теперь своим удивительным борщом?» - и попросит, чтобы Арина Власьевна причесала его волосы и поцелует у нее руку [Тургенев 1981 (2): 178, 179]. Это простое желание почувствовать руки и любовь матери есть не что иное как очевидный жест движения сына к отцам в широком смысле слова, жест соединения. К просьбам отца о причащении Базаров отнесется на удивление бережно, хотя как нигилист он отрицает «всё», значит и существование Бога. Он не отказывается, но лишь откладывает важный и скорбный обряд. Да и в целом знаменитый диалог между старшим и младшим Базаровыми: «. сын мой, дорогой мой, милый сын! ... - Что, мой
отец?» [Тургенев 1981 (2): 180], - напоминает
читателю о другой вечной ситуации. Есть высшее единство Отца и Сына - «. и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына.» [Матф., II: 27], и есть неизбежная Голгофа последнего, которая открыла миру любовь Отца, которой он возлюбил Сына и всех своих чад. В Геф-симанской молитве Христос обращается к Отцу: «И Я открыл им имя твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и Я в них» [Иоан., XVII: 26].
Предшествующий «Отцам и детям» роман «Накануне» начинается с беседы двух молодых людей о «разъединяющих» и «соединяющих словах». К числу последних у Тургенева относятся: «искусство, родина, наука, свобода, справедливость». И любовь. Правда, любовь способна и разъединять, когда она соприродна наслаждению, как резонно полагает один из героев этого романа, художник Шубин, но и соединять, когда в ней есть жертвенность и желание «поставить себя номером вторым», как подчеркивает философ Берсенев. Однако это умозрительное разделение двух крайних начал любви, по верному замечанию Шубина, плохо уживается в русском человеке. Сам он не хочет думать о соединяющей «любви-жертве» и жаждет только «любви-наслаждения». Первое, как скажет он, «хорошо для немцев» [Тургенев 1981 (1): 167]. Однако Тургенева-художника интересует и то, и другое - он ищет возможность их высшего соединения.
В «Отцах и детях» именно в любви наиболее полно и явственно обнаруживают себя силы разъединения и соединения, что организуют человеческое пространство, связи человека с миром. Любовь оказывается той энергией отталкивания и сближения, что порождает любое развитие и уберегает от
разрушения. Но это не та всесильная и одновременно холодно равнодушная сила любви из рассуждений Гете-натурфилософа, которого цитировал когда-то Тургенев в своих письмах и статьях. Она у Тургенева вмещает в себя то, чего нет и не может быть в одной природе, но что отличает мир человеческий с его душевной и сердечной симпатией, предопределенной божественным Промыслом, поскольку люди хотя и не ангелы, но и не звери. Как верно отметила Г. Б. Курляндская, «."отцы" и "дети" имеют отношение к одному и тому же источнику - своему божественному происхождению - и те и другие созданы по образу и подобию Божьему» [Курляндская 2007: 18]. Поэтому и отечески-сыновние связи обусловлены Богоподобной природой человека.
В любви между мужчиной и женщиной, которую много изучал Тургенев-художник в 1850-е годы, неизбежно дает о себе знать ее природная хрупкость, онтологическая временность, стихийность, трагическая неизбежность разъединения любящих - таковы синонимичные истории любви Павла Петровича Кирсанова и княгини Р., Базарова и Одинцовой. Внутренний разлад сил разъединения сказывается и в отношениях Аркадия и Кати, Николая Петровича и Фенечки, даже старичков Базаровых. Но на этом все не замыкается, поскольку разъединение у Тургенева переходит в единение и гармонию, не бездушную, молчаливую и безучастную к человеку гармонию одной природы, как, например, в «Записках охотника» или в «Поездке в Полесье», но гармонию самой человеческой жизни, основывающейся на любви человеческой - всех ко всем, - несмотря на различия и разногласия.
Действие любви - отталкивание и притяжение - ощутимо во всех сферах человеческого бытия: от любви между мужчиной и женщиной до внутрисемейных и даже общественных отношений. Поэтому не так уж неразрешим сам конфликт между дворянами и разночинцами, например, или «нигилистами» и «гегелистами», как скажет о своих сверстниках Павел Петрович. Диалектика любви и ее раз-деляюще-соединяющее поле особенно явственно высказывается в тургеневском романе в отношениях между отцами и детьми.
Само название романа - своего рода «формула», в которой исследователи справедливо усматривают мифологему «отца и сына»7, - читателем обязательно ощущается не только как противостояние поколений (на одном полюсе отцы, на другом - дети), но и как их соединение, восходящее в своей
7 Ср. размышление Е. Ю. Полтавец: «Не будем пони-
мать название романа только как указание на оппозицию: "люди 40-х годов" и "шестидесятники" или даже на "всегдашний" конфликт поколений. "Отцы и дети" как формула даже шире "эдипального" смысла смены поколений, т. к. универсальный характер противостояния старого и нового дополняется здесь вопросом о том, кто же предписал этот закон противостояния, другими словами, вопросом о том, каковы же взаимоотношения тварного мира и Творца, т. е. всеобщего Отца. При этом для мифологического сознания "отцами" будут боги, как, например, Зевс - отец многочисленных героев...» [Полтавец 2009: 60].
высшей точке к единению Отца и Сына8. Отношения отцов и детей, даже в случае если они отрицают друг друга, все равно сказываются любовью, в которой есть место и непониманию, и противоречиям, но и - обязательно - пониманию и в конечном счете примирению.
Однако тургеневский роман свидетельствует еще и о другом, очень важном в социальном и духовном смысле аспекте этого примирения. Он говорит читателю о том, что большая ответственность для осуществления встречи двух поколений ложится на отцов. Они в большей мере, чем дети, ответственны за понимание и согласие. Можно сказать, что в «Отцах и детях» мы наблюдаем за тем, как художественно развиваются те мотивы, которые были обозначены в прощальном монологе Лаврец-кого. Герой «Дворянского гнезда» не только подводил итог своей «бесполезной жизни» и приветствовал «одинокую старость», но и благословлял молодое поколение: «Играйте, веселитесь, растите, молодые силы, - думал он, и не было горечи в его думах, - жизнь у вас впереди, и вам легче будет жить: вам не придется, как нам, отыскивать свою дорогу, бороться, падать и вставать среди мрака; мы хлопотали о том, как бы уцелеть - и сколько из нас не уцелело! - а вам надобно дело делать, работать, и благословение нашего брата, старика, будет с вами» [Тургенев 1981 (1): 158]. Благословение отцов нужно детям - оно залог их будущего; молитва о детях - основа их личной и всеобщей гармонии. Отцы должны принимать детей - отрицателей, нигилистов, даже если те «грубы», «бессердечны», «безжалостно сухи» и «резки». Несмотря на все эти недостатки и вопреки им, как полагал Тургенев, читатель «должен полюбить» и одного из таких детей - Базарова. Об этом он дважды в апреле 1862 года писал К. К. Случевскому и А. И. Герцену, с разницей всего в два дня - столь важна была для него эта мысль. А вину, в случае если читатель (вариация отцов) не полюбит его героя, Тургенев оставлял за собой: значит «я виноват и не достиг своей цели», «не сумел сладить с избранным мною типом» [Тургенев 1988: 59, 50].
Это чувство читательской любви к герою - и, надо предположить, что и писательской, поскольку Тургенев высказывался об этом прямо, хотя и не без иронии: «чувствовал к нему "влечение, род недуга"» [Тургенев 1988: 50], - предполагает неприятие вышеперечисленных черт: грубости, резкости и проч., но одновременно и приятие через них «страстного, грешного, бунтующего», «великого сердца», которое увидел в Базарове Ф. М. Достоевский [см.: Ба-тюто 2004: 85-104].
Любовь к Базарову, этому отрицателю всего и потому вроде бы человеку, настроенному на разрушение и разъединение, эта любовь к герою, которая в итоге должна захватить читателя, в финале романа объединяет многих, если не сказать всех. Как акт
8 Противоположная трактовка о вероятной полемике романа с идеей единосущности Отца и Сына, закрепленной в Символе веры, представлена в той же работе Е. Ю. Полтавец [Там же: 70-71].
милосердия и жертвенного сострадания можно расценить приезд Анны Сергеевны Одинцовой к умирающему Базарову; в память о Базарове поднимают свои бокалы Катя и Аркадий; о высшем значении отцовской любви свидетельствуют слезы и молитвы родителей Базарова на могиле сына. И на самом деле едва ли не все персонажи романа меняются ввиду того, что в их жизни была встреча с Базаровым.
И тут уже не столько побеждает сила жизни, возвышаясь своим величием и мощью над человеком и всем человеческим, как полагал Н. Н. Страхов - «как бы то ни было, Базаров все-таки побежден; побежден не лицами и не случайностями жизни, но самою идеею этой жизни» 9, - сколько и сам оказывается победителем, поскольку любовь, которой любит он и любят его, доказывает прочность отечески-сыновних связей, что обусловлены Богоподобной природой человека, неотъемлемой частью которых Базаров и является. Поэтому «Отцы и дети» - это не столько повествование о бессмысленном бунте фаустовской натуры против природного порядка вещей, или книга о вызове обществу, в котором тесно существовать сильной и яркой личности, и даже не художественное изучение вечного дуализма (диалектики) жизни, заключающего в себе что-то непоправимо трагическое. «Отцы и дети» - это роман о любви человеческой как о первооснове бытия, где в самом разъединении личности в социуме и природе, которое чревато трагическим одиночеством, сказывается и естественное (не в натурфилософском, а духовном смысле) стремление любить всех, быть в единстве со всеми и со всем. И на этом стоит мир.
Это роман о соединении разнородного пространства человеческого мира в единое целое, о красоте человеческих отношений, причем независимо от личностного масштаба того, кто любит. Любовь в этом романе коснулась всех, у любви нет иерархий и нет предпочтений. И потому даже герои маленького человеческого содержания вовлечены в этот общий «текст» человеческой любви с ее Богоприродными истоками. Тут мы решительно не согласимся с тем, что «уровни человечности» [см.: Маркович 1975], которым соответствуют разные персонажи тургеневских романов, в том числе «Отцов и детей», проводят между ними непреодолимые границы. Трудно согласиться и с утверждением современного исследователя о том, что «в системе персонажей произведения хозяева Марьина, Никольского и старики Базаровы в свой черед объединяются в группу, не социально, а психологически и нравственно, т. е. на собственно человеческом уровне, объективно противостоящую Базарову и Павлу Кирсанову» и что «в <...> конечной группировке действующих лиц "Отцов и детей" отразился и воплотился <...> "философский конфликт тургеневского творчества: противостояние "обоготворенной" личности <... > безликому, всеобщему целому"» [Недзвецкий 2008: 114].
9 Под жизнью, стоящей выше тургеневского Базарова, Н. Н. Страхов понимал «обаяние природы, прелесть искусства, женскую любовь, любовь семейную, любовь родительскую, даже религию» [Страхов 2003].
Нет, иерархичность персонажей «Отцов и детей» - явление скорее типологическое, чем ценностное в художественном мире Тургенева. Не случайно писатель понимает, а значит и принимает в романе любого, кого коснулся отсвет любви. Как он когда-то писал о Маргарите из «Фауста» Гете, что она, благодаря любви и страданию, оказывается много «выше» и значительней мудреца Фауста [Тургенев 1978: 214], так и в его романе все персонажи, независимо от их личностного масштаба, равны, потому что любят. Не случайно даже тот вариант семейного союза и любовного чувства, которые воплотились в истории Фенечки и Николая Петровича, Тургенев не стал освещать саркастически и подчеркивать в нем приметы пошлости, как он это делал, например, в 1840-е годы в своих стихотворных новеллах. Теперь его современная Гретхен - состоявшаяся молодая мать, и именно поэтому «права» [Тургенев 1981 (2): 42] и, продолжили бы мы, «обоготворена». Фенечка-Гретхен не погибает сама и не становится причиной смерти близких и своего ребенка - она мать, жена и излучает жизнь. Едва ли можно упрекнуть в «безликости» и родителей Базарова. И пусть они не умудрены во многих знаниях, личностный масштаб их в полной мере явлен в той поистине могущественной отеческой и материнской преданной любви к сыну, которая разлита в эпилоге.
В итоге все персонажи, несмотря на разномас-штабность, оказываются родственны и близки, потому что каждый в своей мере и в своей доле, любит и соединяет себя с миром любовью.
«Вечное примирение» в мире природы предполагает ее спокойное «равнодушие», но в сфере человеческой, как показано в романе, все происходит иначе. Очевидные реминисценции из евангельского текста о птицах небесных и лилиях долины как знаках райского бытия10, молитвы и слезы отцов как свидетельство живого, сердечного неравнодушия, что завершают роман Тургенева, обусловливают в конечном счете и надежду на «жизнь бесконечную» [Тургенев 1981 (2): 188].
Картина мира, представленная в «Отцах и детях», обнаруживает выход за пределы неизбежной катастрофичности. В основе гармонизации мира, когда из хаоса всех противоречий собирается космос содружества всего и вся, лежит сама природа человеческого сердца и та любовь, что в разной мере открыта каждому. Диалектика жизненных противоречий синтезируется любовью, а в ее основе лежит отеческая - в широком смысле этого слова - забота, попечение о детях, молитва за них и благо-словление, невзирая на то, плохи они или хороши. Но и дети в итоге испытывают отеческую и сыновнюю (в их неизменном единстве) любовь к родителям, к отечеству и дому. В этой связи примечательно само
10 «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их»; «Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них» [Мф. 6: 26, 28-29].
посвящение романа «Отцы и дети» памяти Виссариона Григорьевича Белинского, которого Тургенев считал своим отцом на ниве эстетической и всегда относился к нему с сыновней любовью. В целом Тургенев предложил читателю мифологическую историю, т. е. неизменно повторяющуюся, со всякой сменой поколений, исторических эпох, цивилизаций, культур и традиций.
ЛИТЕРАТУРА
Батюто А. И. Избранные труды. - СПб.: Нестор-История, 2004. - 960 с.
Беляева И. А. Генезис русского классического романа («Божественная Комедия» Данте и «Фауст» Гете как истоки жанра): учебное пособие. Ч. I. - М.: МГПУ, 2011. - 280 с.
Гете И.-В. Избранные философские произведения. - М.: Наука, 1964. - 520 с.
Кормилов С. И. Базаров - не разночинец! // И. С. Тургенев: русская и национальные литературы: материалы межд. научно-практич. конференции 26-28 окт. 2013 г. - Ереван: Лусабац, 2013. - С. 389-400.
Маркович В. М. Человек в романах Тургенева. - Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1975. - 154 с.
Недзвецкий В. А. И. С. Тургенев: Логика Творчества и менталитет героя: Курс лекций. - М.: Мос. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова; Стерлитамак: Стерлитамак. гос. пед. академия, 2008. - 230 с.
Полтавец Е. Ю. «Отец» и «дети» в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети»: к вопросу о смысле названия // Тургеневские чтения. Вып. 4. - М.: Русский путь, 2009. - С. 56-78.
Пушкин А. С. Полн. собр. сочинений: в 10 т. Т. 5 - Л.: Наука, 1978. - 527 с.
Страхов Н. Н. И. С. Тургенев. «Отцы и дети» [Электронный ресурс] // Критика 60-х гг. XIX века. - М.: Аст-рель; АСТ, 2003. - Режим доступа: http://az.lib.rU/s/strahow_n_n/text_0050.shtml (дата обращения: 21.07.2017).
Трофимова Т. Б. (1) Дантовские реминисценции в повести И. С. Тургенева «Фауст» // Спасский вестник. - 2004. - Вып. 11. - С. 58-64.
Трофимова Т. Б. (2) Тургенев и Данте (К постановке проблемы) // Русская литература. - 2004. - № 2. - С. 169-182.
Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Письма: в 18 т. Т. 5. - М.: Наука, 1988. - 640 с.
Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Сочинения: в 12 т. Т. 1. - М.: Наука, 1978. - 574 с.
Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Сочинения: в 12 т. Т. 4. - М.: Наука, 1980. - 687 с.
Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Сочинения: в 12 т. Т. 6. - М.: Наука, 1981 (1). - 395 с.
Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Сочинения: в 12 т. Т. 7. - М.: Наука, 1981 (2). - 559 с.
Batyuto A. I. Izbrannye trudy. - SPb.: Nestor-Istoriya, 2004. - 960 s.
Belyaeva I. A. Genezis russkogo klassicheskogo roma-na («Bozhestvennaya Komediya» Dante i «Faust» Gete kak istoki zhanra): uchebnoe posobie. Ch. I. - M.: MGPU, 2011. - 280 s.
Gete I.-V. Izbrannye filosofskie proizvedeniya. - M.: Nauka, 1964. - 520 s.
Kormilov S. I. Bazarov - ne raznochinets! // I. S. Tur-genev: russkaya i natsional"nye literatury: materialy mezhd. nauchno-praktich. konferentsii 26 28 okt. 2013 g. - Erevan: Lusabats, 2013. - S. 389-400.
Markovich V. M. Chelovek v romanakh Turgeneva. - L.: Izd-vo Leningradskogo un-ta, 1975. - 154 s.
Nedzvetskiy V. A. I. S. Turgenev: Logika Tvorchestva i
mentalitet geroya: Kurs lektsiy. - M.: Mos. gos. un-t im. M.V. Lomonosova; Sterlitamak: Sterlitamak. gos. ped. akad-emiya, 2008. - 230 s.
Poltavets E. Yu. «Otets» i «deti» v romane I. S. Tur-geneva «Ottsy i deti»: k voprosu o smysle nazvaniya // Tur-genevskie chteniya. Vyp. 4. - M.: Russkiy put", 2009. - S. 56 78.
Pushkin A. S. Poln. sobr. sochineniy: v 10 t. T. 5 - L.: Nauka, 1978. - 527 s.
Strakhov N. N. I. S. Turgenev. «Ottsy i deti» // Kritika 60-kh gg. XIX veka. - M.: Astrel"; AST, 2003. - Rezhim dostupa:
http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_0050.shtml (data obrash-che-niya: 21.07.2017).
Trofimova T. B. (1) Dantovskie reministsentsii v povesti
I. S. Turgeneva «Faust» // Spasskiy vestnik. - 2004. - Vyp. 11. - S. 58-64.
Trofimova T. B. (2) Turgenev i Dante (K postanovke prob-lemy) // Russkaya literatura. - 2004. - № 2. - S. 169-182.
Turgenev I. S. Poln. sobr. soch. i pisem: v 30 t. Pis"ma: v 18 t. T. 5. - M.: Nauka, 1988. - 640 s.
Turgenev I. S. Poln. sobr. soch. i pisem: v 30 t. So-chineniya: v 12 t. T. 1. - M.: Nauka, 1978. - 574 s.
Turgenev I. S. Poln. sobr. soch. i pisem: v 30 t. So-chineniya: v 12 t. T. 4. - M.: Nauka, 1980. - 687 s.
Turgenev I. S. Poln. sobr. soch. i pisem: v 30 t. So-chineniya: v 12 t. T. 6. - M.: Nauka, 1981 (1). - 395 s.
Turgenev I. S. Poln. sobr. soch. i pisem: v 30 t. So-chineniya: v 12 t. T. 7. - M.: Nauka, 1981 (2). - 559 s.
Ирина Анатольевна Беляева - доктор филологических наук, профессор, профессор Московского городского педагогического университета, профессор филологического факультета, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (Москва).
Адрес: 129226, Россия, г. Москва, пр-д 2-й Сельскохозяйственный, 4, стр. 1.
E-mail: [email protected].
About the author
Irina Anatolievna Belyaeva - Doctor of Philology, Full Professor, Professor of Moscow City University, Philological Faculty, Lomonosov Moscow State University (Moscow).
Ю.В.Лебедев
Преходящее и вечное в художественном мире Тургенева.
В одном из писем к Полине Виардо Тургенев говорит об особом волнении, которое вызывает у него хрупкая зеленая веточка на фоне голубого далекого неба. Тургенева беспокоит контраст между тоненькой веточкой, в которой трепетно бьется живая жизнь, и холодной бесконечностью равнодушного к ней неба. "Я не выношу неба,- говорит он,- но жизнь, действительность, ее капризы, ее случайности, ее привычки, ее мимолетную красоту... все это я обожаю".
В чем тайна поэтического мироощущения Тургенева? Не в странной ли влюбленности в эту земную жизнь с ее дерзкой, мимолетной красотой? Он "прикован к земле". Всему, что можно "увидеть в небесах", он "предпочитает созерцание торопливых движений утки, которая влажною лапой чешет себе затылок на краю лужи, или длинные, блестящие капли воды, медленно падающие с морды неподвижной коровы, только что напившейся в пруду, куда она вошла по колено".
Острота художественной зоркости Тургенева исключительна. Но чем полнее он схватывает красоту преходящих мгновений, тем тревожнее чувствует их кратковременность. "Наше время,- говорит он,- требует уловить современность в ее преходящих образах; слишком запаздывать нельзя". И он не запаздывает. Все шесть его романов не только попадают в "настоящий момент" общественной жизни России, но и по-своему его опережают, предвосхищают. Тургенев особенно чуток к тому, что стоит "накануне", что еще только носится в воздухе. По словам Добролюбова, Тургенев быстро угадывает "новые потребности, новые идеи, вносимые в общественное сознание, и в своих произведениях непременно обращает внимание на вопрос, стоящий на очереди и уже смутно начинающий волновать общество".
Это значит, что он видит дальше и зорче своих современников. Забегая вперед, Тургенев определяет пути, перспективы развития литературы второй половины XIX столетия. В "Записках охотника", в "Дворянском гнезде" уже предчувствуется эпос Толстого, "мысль народная", духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова. В "Отцах и детях" предвосхищается мысль Достоевского, характеры будущих его героев.
Тургенев, как никто из его современников, чувствителен к течению времени. Он чутко прислушивается к непрестанному ропоту его колес, задумчиво всматриваясь в широкое небо над головой. Тургенева считают летописцем этого напряженного, драматического периода русской истории, когда, по словам В. И. Ленина, "в несколько десятилетий совершались превращения, занявшие в некоторых старых странах Европы целые века".
Но Тургенев если и летописец, то странного свойства. Он не идет по пятам исторических событий. Он не держит дистанции. Напротив! Он все время забегает вперед. Острое художественное чутье позволяет ему по неясным, смутным еще штрихам настоящего уловить грядущее и воссоздать его в неожиданной конкретности, в живой полноте.
Этот дар Тургенев нес всю жизнь как тяжкий крест. Ведь он вызывал своей дальнозоркостью постоянное раздражение у современников, не желавших жить, зная наперед свою судьбу. И в Тургенева часто летели каменья. Но таков уж удел любого художника, наделенного даром "предвидений и предчувствий". Когда затихала борьба, наступало затишье, те же гонители шли к нему на поклон с повинной головой.
Духовный облик людей культурного слоя общества в эпоху Тургенева изменялся очень быстро. Это вносило драматизм в романы писателя: их отличает стремительная завязка, яркая, огненная кульминация и резкий, неожиданный спад с трагическим, как правило, финалом. Они захватывают небольшой отрезок времени, поэтому точная хронология играет в них существенную роль. Жизнь тургеневского героя крайне ограничена во времени и пространстве. Если в характерах Онегина и Печорина "отразился век", то в Рудине, Лаврецком или Базарове - духовные устремления минуты. Жизнь тургеневских героев подобна ярко вспыхивающей, но быстро угасающей искре в океане времени. История отмеряет им напряженную, но слишком короткую судьбу. Все тургеневские романы включены в жесткие ритмы годового круга. Действие завязывается обычно весной, достигает кульминации в знойные дни лета, а завершается под "свист осеннего ветра" или в "безоблачной тишине январских морозов". Тургенев показывает своих героев в счастливые минуты полного расцвета их жизненных сил. Но минуты эти оказываются трагическими: гибнет на парижских баррикадах Рудин, на героическом взлете, неожиданно обрывается жизнь Инсарова, а потом Базарова, Нежданова...
И однако трагические ноты в творчестве Тургенева - не следствие усталости или разочарования в смысле истории. Скорее, наоборот: они порождены страстной влюбленностью в жизнь, доходящей до жажды бессмертия, до дерзкого желания, чтобы человеческая индивидуальность не исчезала, чтобы красота явления, достигнув полноты, не угасала, но превратилась в вечно пребывающую на земле красоту. В его романах злободневные события, герои своего времени поставлены перед лицом вечности. Базаров в "Отцах и детях" говорит: "Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет; и часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна перед вечностию, где меня не было и не будет... А в этом атоме, в этой математической точке, кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже... Что за безобразие, что за пустяки!"
Нигилист скептичен. Но заметим, как на пределе отрицания смысла жизни пробивается и в Базарове тайное смущение, даже растерянность перед парадоксальной силой человеческого духа. И это смущение опровергает его вульгарный материализм. Ведь если Базаров сознает биологическое несовершенство человека, если он возмущается этим несовершенством, значит, и ему дана одухотворенная точка отсчета, возвышающая его дух над "равнодушной природой". А значит, и он неосознанно носит в себе частицу совершенного, сверхприродного существа. И что такое роман "Отцы и дети", как не доказательство той истины, что и бунтующие против высшего миропорядка по-своему, от противного, доказывают существование его.
"Накануне" - это роман о порыве России к новым общественным отношениям, о сознательно-героических натурах, толкающих вперед дело освобождения. И в то же время это роман о вечном поиске и вечном вызове, который бросает дерзкая человеческая личность слепым и равнодушным законам несовершенной, недовоплощенной природы. Внезапно заболевает Инсаров, не успев осуществить великое дело освобождения Болгарии. Любящая его русская девушка Елена никак не может смириться с тем, что это конец, что болезнь друга неизлечима. "О Боже! - думала Елена,- зачем смерть, зачем разлука, болезнь и слезы? или зачем эта красота, это сладостное чувство надежды, зачем успокоительное сознание прочного убежища, неизменной защиты, бессмертного покровительства? Что же значит это улыбающееся, благословляющее небо, эта счастливая, отдыхающая земля? Ужели это все только в нас, а вне нас вечный холод и безмолвие? Ужели мы одни... одни... а там, повсюду, во всех этих недосягаемых безднах и глубинах,- все, все нам чуждо? К чему же тогда эта жажда и радость молитвы?.. Неужели же нельзя умолить, отвратить, спасти... О Боже! неужели нельзя верить чуду?"
В отличие от Достоевского и Толстого, Тургенев не дает прямого ответа на этот вечный, тревожный вопрос. Он лишь приоткрывает тайну, склонив колени перед обнимающей мир красотою: "О, как тиха и ласкова была ночь, какою голубиною кротостию дышал лазурный воздух, как всякое страдание, всякое горе должно было замолкнуть и заснуть под этим ясным небом, под этими святыми, невинными лучами!" Тургенев не сформулирует крылатую мысль Достоевского: "красота спасет мир". Но разве все его романы не утверждают веру в преобразующую мир силу красоты, в творчески-созидательную силу искусства? Разве они не опровергают горькое неверие в смысл красоты? И разве они не рождают надежду на ее неуклонное освобождение от власти слепого материального процесса, великую надежду человечества на превращение смертного в бессмертное, временного в вечное?
"Стой! Какою я теперь тебя вижу - останься навсегда такою в моей памяти...
Какой свет, тоньше и чище солнечного света, разлился по всем твоим членам, по малейшим складкам твоей одежды?
Какой Бог своим ласковым дуновеньем откинул назад твои рассыпанные кудри?..
Вот она - открытая тайна, тайна поэзии, жизни, любви!... В это мгновенье ты бессмертна... В это мгновенье ты стала выше, ты стала вне всего преходящего, временного. Это твое мгновение не кончится никогда".
Именно к ней, к обещающей спасение миру красоте, простирает Тургенев свои руки. С Тургеневым не только в литературу, в жизнь вошел поэтический образ спутницы русского героя, "тургеневской девушки" - Натальи Ласунской, Лизы Калитиной, Елены Стаховой, Марианны... Писатель избирает цветущий период в женской судьбе, когда в ожидании избранника встрепенется девичья душа, проснутся к временному торжеству все дремлющие ее возможности. В эти мгновения одухотворенное женское существо прекрасно тем, что оно превосходит само себя. Излучается такой преизбыток жизненных сил, какой не получит отклика и земного воплощения, но останется заманчивым обещанием чего-то бесконечно более высокого и совершенного, залогом вечности. "Человек на земле - существо переходное, находящееся в процессе общегенетического роста",- утверждает Достоевский. Тургенев молчит. Но напряженным вниманием к необыкновенным взлетам человеческой души он подтверждает истину этой мысли.
Вместе с образом "тургеневской девушки" входит в произведения писателя образ "тургеневской любви". Как правило, это первая любовь, одухотворенная и чистая. В ней что-то сродни революции: "Однообразно-правильный строй сложившейся жизни разбит и разрушен в одно мгновенье, молодость стоит на баррикаде, высоко вьется ее яркое знамя, и что бы там впереди ее ни ждало - смерть или новая жизнь,- всему она шлет свой восторженный привет". Все тургеневские герои проходят испытание любовью - своего рода проверку на жизнеспособность. Любящий человек прекрасен, духовно окрылен. Но чем выше он взлетает на крыльях любви, тем ближе трагическая развязка и - падение...
Роман для Тургенева – попытка найти выход из трагической коллизии достижения недостижимого для героев повести. Герои «Фауста», «Переписки», «Аси» стремятся к «вечной любви» и не могут ее достичь. Существует ли способ как-то преодолеть эту антиномию земного и вечного, как можно преодолеть трагическую безысходность от тяготения к вечному? (см. предыдущий вопрос)
Тургенев предлагает своим героям кардинальную смену запросов: от «вечной» метафизики к реальному миру. Человек, осознав то, что не сможет достичь неба, должен обратить свой взор к земле и попытаться разобраться в материальной жизни. В романах Тургенева это проявляется как заинтересованность его героев жизнью страны, ее социальной действительностью.
Таким образом, для романных героев Тургенева Россия становится не менее значимой, чем «бессмертная любовь» или гармония с природой. При этом, погружаясь в мир «почвы», исследуя русскую жизнь, герои Тургенева остаются людьми с «вечными» вопросами, с метафизическими запросами. Они не могут уйти от трагической антиномии человеческой природы. Тургенев считал, что только такие люди могут влиять на жизнь страны, ибо тем самым они подвергают ее саму самым сложным, опять же, метафизическим испытаниям.
11. Социальный и бытийный уровни конфликта в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети»
Конфликт, обозначенный в названии романа – не только конфликт поколений, но и политический конфликт, конфликт социальный. Это конфликт двух мировоззрений, двух типов отношений к миру, к тем ценностям, которые в нем существуют.
С появлением «новых людей» в России их идеи, облик, поведение, самый стиль жизни сразу привлекли к себе внимание общества. Для очень многих публицистов, образованных людей, либералов, относящихся к поколению самого Т., нигилисты представлялись опасными для России не только как идеологи и политические деятели, но и как культурный тип. Взгляды и цели разночинцев, мыслящих радикально, скептически относящихся к прошлому и настоящему Рос. Гос-ва, казались направленными против национальной жизни.
В центре романа – тип нигилиста и нигилизм как общественное и интеллектуальное явление. Это явление показано как новое в русской жизни, но уже достаточно влиятельное и обаятельное для молодого поколения. Наиболее цельным типом нигилиста является Базаров. «Нигилист – это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип», - так определяет нигилизм Аркадий. Базаров дополняет: «Я уже доложил вам, что ни во что не верю…» Это основа понятия «нигилизм». Отрицание необходимо понимать и как акт интелеллектуальный (нигилисты говорят о необходимости разрушить прежних идолов в собственной душе, в собственном сознании), и как акт практический, т.е. это революционное движение, ставящее своей целью разрушение существующего мира и положения вещей. Читателю ясно дают понять, что Базаров – революционер. В беседе с Аркадием он говорит: «В тебе нет ни дерзости, ни злости, а есть молодая смелость да молодой задор; для нашего дела это не годится. Ваш брат дворянин дальше благородного смирения или благородного кипения дойти не может, а это пустяки. Вы, например, не деретесь – и уж воображаете себя молодцами, - а мы драться хотим».
Базаровым не признаются никакие принципы, взятые сами по себе, вне применения к конкретному делу, и само отрицание совершается по соображениям конкретно пользы, а не «из принципа»: «Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным … В теперешнее время полезнее всего отрицание – мы отрицаем». Отрицание распространяется и на кльтуру, которая становится даже основным объектом обличения, потому что она принципиально бесполезна, строит химеры вроде «романтической» любви, ценит «красивое», а не полезное (Рафаэль гроша медного не стоит ||меня уже тошнит от этой цитаты||) Отрицается представление о природе как о «храме»: для нигилиста природа – «мастерская». Место искусства может и отчасти должна занять наука (в романе мелькают имена химика Либиха, философа-материалиста Бюхнера, которые противопоставляются Пушкину и Рафаэлю).
Однако Б. не предлагает ни положительной программы, ни более или менее исчерпывающего «обзора» того, что он отрицает: «Да ведь надобно же и строить. – Это уже не наше дело… Сперва нужно место расчистить». Такое умолчание объясняется, конечно, и цензурными причинами, кроме того, писать так подробно о таких людях, как Б., - это значит почти доносить на них: «Ну, а насчет других, в людском быту принятых, постановлений вы придерживаетесь такого же отрицательного направления? – Что это, допрос? – спросил Б. П.П. слегка побледнел». Кирсанов в споре допускает некорректный прием, намекая на «принсипы», отрицать которые напного опаснее, чем отрицать рафаэля. Такого разговора Б. поддержать не может. Но дело не только в цензуре. Чрезмерно политизированные диалоги, связно излагать систему взглядов Б. для Т. значило бы отступать от собственных эстетических принципов, жертвовать мерой, художественной формой ради сомнительного содржания. «ОиД» - не идеологический роман, в отличие от будущих романов Достоевского. Для Т. важнее и интереснее не столько нигилизм как стройная система взглядов, сколько нигилист как человек, как тип личности. Нигилизм собирает людей очень разных – и жалких (Ситников и Кукушкина), для которых новые идеи только прикрытие их собственной душевной пустоты, неряшливости, жизненной неустойчивости и абсолютной бесполезности. + люди как Аркадий, чьё происхождение, привычки чужды рев. деятельности. Они становятся нигилистами под впечатлением от таких ярких людей, как Б. Для них нигилизм – это поза, встав в которую можно почувствовать свою значительность. Б. – сильная личность, чьи дела неотделимы от его убеждений. Важная черта Б. – близость к народу.
Поколение «отцов» Все персонажи романа неизбежно делятся на 2 лагеря. Линия, разделяющая «отцов» и «детей», разделила всё общество, и среди «отцов» оказываются и те, кто не относится враждебно к нигилизму (родители Б., Ник.П. Кирс.). Скорее, наоборот, эти «отцы» болезненно и с удивлением осмысляют возникшую отчужденность м\у ними и их детьми.
Аристократический взгляды делают гл. оппонентом Б. Павла П. Аристократия консервативна, эта консервативность благотворна, так как обеспечивает возможность существования нравственных принципов. При этом поведение П.П. противоречит арист. Принципам – неуваж. Отношение к чужой свободе и мнению. В его личности преобладает внешний аристократизмАристокр. Равенства со всяким мыслящим человеком в нем нет. Его фигура скорее комична.Б. бросает вызов взглядам П.П., но тот оказывается неспособен их защитить, в отличие от Б. В этом конфликте Б. оказывается сильнее. Кульминация – дуэль, аристокр.традиция, но уверенно себя чувствует Б. Столкновение Б. и П.П. носит частный характер.
Противостоит силе Б. сама жизнь, органическое начало, которое не может быть разрушено человеком ни в себе, ни вовне, так как он является частью общей жизни. Поэтому тип Б. не представляется источником угрозы. Самой жизни Т. приписывает атрибуты, которые отрицает Б. – гармонию, «бесцельность», органическую эстетичность. Штудируя анатомию, Б. не приближается к тайне жизни, а отрицает её, покушается на её существование. Б. умирает мужественно не из-за правильности своих идей, а потому, что он сильный человек.
Равнодушную гармонию природы дополняет любовь, служащая идее преодоления противоречий, установления порядка и меры. Семья. (Аркадий, НП) восстановленные отношения отца и сына сами собой порождают новые семьи, возвращают человека к гармоническому течению жизни.
12. Женские образы в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети»
Анна Сергеевна Одинцова – женщина28 лет, высокого роста, красивая осанка, стройная, блестящие волосы, спокойно и умно глядят глаза, нависший белый лоб, на губах едва заметная улыбка. Немного толстый нос, мало говорит. Вышла за богатого старика. Характер свободный и довольно решительный. После смерти отца осталась с 12летней сестрой и совершенно не знала, что делать. Пригласила к себе сестру матери. В округе никого не знала. Быстро увлекается, настойчива. Она не имела предрассудков и сильных верований. Ничто не удовлетворяло её вполне, но многое занимало. В одно и то же время и пытлива, и равнодушна. Ей так и не удалось полюбить, и она хотела чего-то, сама не зная чего. Покойного мужа она невыносила, но считала добрым человеком, вышла за него по рассчету. Она получила тайное отвращение к мужчинам, считала их всех докучливыми и вялыми. Мать О. почти не помнила, отца же очень сильно любила.
Катя Одинцова – хорошо играет на фортепьяно, 18 лет, черноволосая и смуглая, с круглым, приятным лицом, с темными небольшими глазами. Когда говорила, мало улыбалась, все в ней было молодо-зелено.
Фенечка (Федосья Николаевна) – темноволосая молодая женщина лет 23, беленькая и мягкая, глаза тёмные, красные детски-пухлые губы, нежные ручки, носила опрятные ситц. Платья, плечи круглые, голос негромкий, но звучный, ходила немножко вразвалку, Дочь экономки.
Евдоксия Кукшина – свободна от предрассудков, передовая женщина, некрасивая, разъехалась с мужем. Везде по дому разбросаны бумаги, неразрезанные журналы и окурки от папирос.
Мать Б. Арина Власьевна – кругленькая, низенькая, суеверна и набожна, сына любила и боялась, женилась не по любви, настоящая русская дворяночка.
Княгиня Р, - внезапно уезжала за границу и так же внезапно возвращалась, вела странную жизнь, слыла за легкомысленную кокетку. Днём и вечером придавалась развлечениям, а ночью ложилась и не могла найти себе покоя. Удивительно сложена, коса золотого цвета падала ниже колен, но во всем её лице хороши были только глаза (невелики и серы), взгляд их, быстрый и глубокий, беспечный и задумчивый, загадочный; изысканно одевалась.
Мужским персонажам, образам активных деятелей, воплощающих новые исторические типы, в романе противопосталяются женские образы. Мужское и женское начала, по Тургеневу, занимают в бытии противоположные позиции: мужчина представляет дух, это творящее начало, деятель, рискующий создавать, вносить в мир то, чего в нем не было раньше; женщина – это, скорее, инертное начало, женщина пребывает, не меняя мира и не меняясь сама, но пребывает в вечном, во вневременном. Она антиисторична сама по себе, но податлива, мягка, приемлет новое, аморфна, но одновременна и тверда, оставаясь хранительницей энергии и любви – главных составляющих человеческой жизни. Женщина символизирует и воплощает в себе сразу 2 природных начала: красоту и любовь и в конечном счёте – саму природу, поскольку олицетворяет её основные атрибуты. Красота и любовь естественно связаны. Красота вызываети эстетический восторг, и желание обладания. Быть красивой и желанной, по Тургеневу, - предназначение женщины. Слово «красиво» постоянно встречается в описании Одинцововй: «Она поразила его достоинством своей осанки. Обнажённые её руки красиво лежали вдоль стройного стана; красиво падали с блестящих волос на покатые плечи лёгкие ветки фуксий; спокойно и умно, именно спокойно, а не задумчиво, глядели светлые глаза из-под немного нависшего белого лба, и губы улыбались едва заметною улыбкою. Какою-то ласковой и мягкой силой веяло от её лица». Её образ постоянно сопровождают эпитеты «тихо», «спокойно», «холодно». Эта скульптурная красота необычайно притягательна, абсолютно неотразима для мужчины, обладает торжествующей, побеждающей силой.
В отношениях с Одинцовой Базаров, конечно же, унижен; именно эта холодность, спокойствие, почти отсутствие желания завоевать героя со стороны Одинцовой, за исключением чисто женского простого «кокетства», и делает положение нигилиста почти комическим. Прекрасной женщине не приходится аже палец о палец ударить для того, чтобы сильный мужчина, отрицающий любовь (романтическую страсть), оказался у её ног («Он вдруг почувствовал себя наедине с молодою, прекрасною женщиной…»). Сама сила женской красоты всемогуща, она даже как бы отделена от её носительницы.
Носительницей женского начала является и Фенечка. Как ни странно, именно эта «простушка» привлекла к себе сразу трех героев романа – Николая Петровича, Павла Петровича и Базарова, в то время как Одинцова – только Аркадия и Базарова. Вот её портрет, в котором проявляется искусство Тургенева в отборе выразительных деталей: «Это была молодая женщина лет двадцати трёх, вся беленькая и мягкая, с темными волосами и глазами, с красными, детски пухлявыми губками и нежными ручками. На ней было опрятное ситцевое платье; голубая новая косынка легко лежала на её круглых плечах. <…> Она ходила немножко вразвалку, но и это к ней пристало». Подробности в описании обстановки комнаты Фенечки подчёркивают домашнее, семейное начало, ей присущее: «клетка с короткохвостым чижом», «банки с прошлогодним вареньем, тщательно завязанные, сквозили зелёным светом; на бумажных их крышках сама Фенечка написала крупными буквами: «кружовник»; Николай Петрович любил особенно это варенье».
Ситуация слабого мужчины, бессильного перед женскими чарами, повторяется и в отношениях Аркадия и Кати, уступающей в красоте сестре, но тем больше обнаруживающей могущество женского обаяния. Наиболее полно раскрывает смысл женственности образ княгини Р. – существо, всецело отдающееся неким силам, над которыми она не властна и которые не способна осмыслить: «Что гнездилось в этой душе – Бог весть! Казалось, она находилась во власти каких-то тайных, для неё самой неведомых сил; они играли ею, как хотели; её небольшой ум не мог сладить с их прихотью». Загадку символизирует перстень со сфинксом, подаренный ей однажды Павлом Петровичем. Перед смертью она возвращает ему перстень: «…она провела по сфинксу крестообразную черту и велела ему сказать, что крест – вот разгадка». Крест – отгадка, перечеркивающая сфинкса-загадку, - воплощает судьбу, «свой крест», «выпавшее на долю». Любовь, загадка и судьба соединяются здесь. Тайна женщины – это тайна природы, которая дает удел человеку, наделяет его судьбой. Смысл человеческой жизни в том, чтобы найти и прожить свою судьбу. Любовь, страсть – это то, что дает возможность найти свой крест, что позволяет не разгадать загадку природы и мира, но стать её частью, как кресть становится частью общего рисунка на перстне. Крест в данном случае не только перечеркивает сфинкса, но и дополняет рисунок. Любить – значит взять крест, принять судьбу, отдаться природе, самой жизни.
13. Общий смысл названия романа И.А.Гончарова «Обыкновенная история»
Уже в названии “Обыкновенной истории“ присутствует определение, в такой же мере важное для понимания этого первого печатного произведения писателя, как и для гончаровской концепции современной действительности в целом. Определение это - обыкновенная. Названная тенденция стала воистину универсальной (“Все однообразно!“, “Все… обыкновенно“; II, 19) для эпохи, в которой решительно “все подходит под какой-то прозаический уровень“. Последнее понятие - своего рода эпиграф Гончарова к русской и мировой действительности 40-60-х годов, а вместе с тем и одно из опорных слов поэтики писателя. Но какое именно свойство жизни имел в виду художник, говоря о ее всеобщей прозаизации?
Термин “обыкновенная“ поначалу просто вытесняет и меняет понятие “частной жизни“ человека. Уже эта замена отражала, однако, принципиальный сдвиг в отношении литературы к данной сфере действительности. Эстетически вторичная в дореалистических литературных направлениях, где она заслонялась, по выражению автора “Евгения Онегина“, “важными“ (“Свой слог на важный лад настроя, Бывало пламенный творец...“) или возвышенными, “роскошными“ (“Другой поэт роскошным слогом...“) сторонами, эта область человеческого бытия для писателя-реалиста обретает первостепенный интерес и значение, преображаясь из периферии в средоточие жизни. По существу, это произошло уже в пушкинском “романе в стихах“, “разнообразное содержание“ которого современники идентифицировали именно с “жизнью действительной, жизнью частной“2. Как подчеркивал Гоголь, в “Онегине“ Пушкин “погрузился в сердце России, в ее обыкновенные равнины“3. “Он, - писал позднее В. Г. Белинский, - взял эту жизнь как она есть… взял ее со всем холодом, со всею ее прозою и пошлостию“4. В пушкинском же “романе в стихах“ была впервые достигнута и эстетизация обыкновенной жизни, открытие ее иной по сравнению с классицизмом и романтизмом поэтичности, которую А. Дельвиг назвал “поэзией истины“5, а сам Пушкин - “поэзией жизни“6. Невозвышенные, порой заурядные события и характеры впервые были поняты и раскрыты как сложные и неисчерпаемые, таящие в себе одновременно разные возможности, следовательно, и общезначимые, общеинтересные7.
Тесная связь, существовавшая (особенно для современников) между этой новаторской поэтичностью и новым “материалом“ литературы, придавала вышеуказанному понятию значение одного из терминов формирующегося направления, чему, заметим, служили и объективные основания. Ведь молодое реалистическое искусство, воспринятое в контексте классицизма и романтизма - а именно так оно сперва и воспринималось, - не только осознавалось, но и сознавало себя прежде всего поэзией (искусством) обыкновенного. Это отчетливо заметно в одной из первых деклараций русского реализма - знаменитой строфе из “Путешествия Онегина“ (“Иные нужны мне картины: Люблю песчаный косогор...“ и т. д.), где новое художественное качество пояснено непосредственно самой картиной повседневно-частной жизни, быта, от которой оно еще неотторжимо.
Если роман обращен в первую очередь к “частному человеку“ со всем его “обыкновенным, повседневным, домашним“9, то он и сам может быть назван, в отличие от эпической поэмы, трагедии или оды, формой “простой и… обыкновенной“10, что не расходилось с его действительным демократизмом и доступностью для относительно широкой публики.
Известная простота определения “обыкновенная“ довольно скоро сменяется, однако, его многозначностью, обусловленной далеко не элементарным, как казалось поначалу, но скорее противоречивым и загадочным складом самой русской и общеевропейской повседневности.
Действительность все чаще именуется не просто обыкновенной, но прозаической. При этом подразумевается не только частная, повседневная ее сфера, но современная жизнь как таковая, во всех ее гранях и объеме.
“Обыкновенная история“ Гончарова открывается мотивом. Это дорога из старого уклада и мира (поместье Грачи) в мир новый, еще неведомый, олицетворяемый столичным Петербургом. На протяжении всего произведения его главный герой Александр Адуев пребывает тем не менее в состоянии странника, и лишь в эпилоге мы увидим его “вписанным“ в “новый порядок“ (I, 41) или “век“ (I, 263), как солидарно с предшественниками предпочитает уточнить романист.
Прозаизм устанавливающегося “века“ он будет рассматривать как его структурно-внутреннее, при этом исторически неизбежное качество. Уже по этой причине Гончарова не могло удовлетворить оценочное отношение к явлению - положительное или отрицательное. Предстояло подвергнуть его всестороннему анализу, создать адекватную ему художественную концепцию и литературную форму.
14. Жизненные позиции Александра и Петра Адуевых в романе И.А. Гончарова «Обыкновенная история»
Образ человека-машины, много позднее гениально развитый, надо полагать, не без влияния Гончарова, в толстовской “Анне Карениной“, впервые был создан в “Обыкновенной истории“, где занимает одно из центральных мест. Уподобление бездушному механизму позволит романисту охарактеризовать и в конечном счете развенчать “взгляд на жизнь“ (I, 41) и существование чиновника и заводчика Адуева-старшего.
На роль главного героя претендуют сразу 2 персонажа, и это отличает «ОИ» от многих романов 19 века. В романе действуют родственники – дядюшка и племянник. Дядюшка – петербургский делец, не только чиновник, но и заводчик, промышленник. Это один из первых образов промышленника, капиталиста в рус.л-ре. Причем – редкий случай в РЛ – этот капиталист обрисован иногда не без симпатии. Перед нами история превращения юного романтика в благополучного и циничного дельца и одновременно история жизненной катастрофы «соблазнителя», безуспешно пытавшегося изгнать всякий «романтизм» (чувтсва) из собственной жизни.
Произведение тем самым сразу же ориентировано на современный всемирно-исторический процесс. В самом деле: устремления героя “Обыкновенной истории“ прямо противоположны руссоистскому (сентименталистскому) идеалу “естественной“ жизни на лоне природы, в кругу любящих его друзей и близких. Не влечет его и романтический “призрак свободы“ (Пушкин) от ложной и лживой цивилизации, владевший умами предшествующего поколения. Ведь в обоих этих случаях Александр остался бы в деревне. С другой стороны, и не условия существования - деревенские на столично-городские - меняет своим “исходом“ из Грачей Александр.
По мысли романиста, Адуев-младший покидает воплощенный в Грачах и переставший его удовлетворять традиционный способ (уклад) бытия ради иного, чаемого, отвечающего нынешнему человеку и олицетворяемого Петербургом как “окном“ в Европу и весь мир. Жизнь, нераздельно царящая в Грачах, - это патриархальная идиллия. Простота интересов, сведенных к физиологическому циклу (“Женился бы, послал бы бог тебе деточек, а я бы нянчила их - и жил бы без горя, без забот, и прожил бы век свой мирно, тихо...“ - I, 9), решенность или отсутствие общественных коллизий, а главное, непосредственность человеческих отношений и связей обусловили присущее ей обаяние - поэзию. “Благодатью“ называет ее мать героя, и в известной степени она права. Однако и гармония и поэзия этого существования достигнуты ценою его самоизоляции и отрешенности от большого мира, многообразных и “вечных“ потребностей и устремлений человека. Да и сам человек в этом мире скорее стереотипен, чем индивидуально отличен от себе подобных - дворян-помещиков или крепостных крестьян. Между тем Александр Адуев приобщался в университете ко всемирной культуре, в нем пробудились неповторимые - личностные - интересы. Их-то он и надеется прежде всего осуществить на широком петербургском, хотя еще и неведомом ему, поприще.
Новый жизненный уклад в “Обыкновенной истории“ представляет дядя Александра Петр Иванович Адуев, петербургский чиновник и одновременно заводчик, что придает этой фигуре нетрадиционные черты. Сюжет основных частей произведения и движим столкновением “взглядов на жизнь“ (I, 41) Адуева-младшего и старшего как двух общечеловеческих философий жизни. Взаимно высвечивая и испытывая их друг другом в процессе “диалогического конфликта“, романист обнажает ограниченность каждой из этих философий по отношению к авторской “норме“ подлинно человеческого существования, к осознанию которой незаметно подводится читатель.
В чем смысл позиции Александра Адуева, раскрываемой в первой части произведения? Она выглядит подчеркнуто романтической и все же романтизмом далеко не исчерпывается. С возвышенными умонастроениями 20-30-х годов Адуева-младшего роднят представление о его мнимом превосходстве над окружающей “толпой“, наклонность к “искренним излияниям“ и сотворению в своей душе “особого мира“, культ поэзии (поэта) и искусства, противопоставляемых “низкой действительности“, “грязи земной“, трактовка любви (“благородная колоссальная страсть“) и дружбы (“неизменной и вечной“) и всего более - высокопарная, пестрящая романтическими штампами (“вещественные знаки невещественных отношений; “дух его прикован к земле“; “осуществить те надежды, которые толпились...“ и т. п.) фразеология. И все же это скорее оболочка мировоззрения этого человека, чем его сущность. Дело в том, что в грядущий новый мир Адуев-младший вступает наследником не одной ближайшей к нему эпохи (романтической), но вообще старой “простой, несложной, немудреной жизни“ (I, 290), являющей собою сплав многих патриархальных укладов - от идиллических до средневеково-рыцарских.
Идеолог и адвокат материально-меркантильных устремлений “нового порядка“, как именует он современную жизнь, Адуев-старший являет в романе тип безраздельного релятивиста и прагматика. При этом своей “правде“ он верен не только в служебных и деловых заботах, но и в интимно-сердечных отношениях с женой и племянником. Он вообще не признает различия между духовными (внутренними) и внешними интересами человека. Если Александр чурался житейской прозы, то Петр Адуев ее абсолютизирует. Если первый рядился в героические доспехи, то второй предпочитает как раз не выделяться из ряда, быть “человеком, как все“ (I, 50).
В «ОИ» нет явной духовной близости главного героя и автора, присущей романам Пушкина и Лермонтова, потом – Толстого, Тургенева. Гл. тема «ОИ» - крушение романтических представлений о жизни – очень злободневна, в ней чувствуется влияние идей Белинского, критиковавшего «запоздалый романтизм» в своих статьях 40х гг. Изображена деградация романтизма прежде всего как стиля жизни. Гончаров – и это характерно для писателя его времени – очень историчен, даже социологичен. Кризис романтизма для него – это прежде всего вытеснение феодального, усадебного, помещичьего уклада новым, более жизнеспособным – буржуазным. Однако конкретно-исторический сюжет – разочарование русского барича 1840х гг. имеет и более широкий, символический, общечеловеческий, вечный смысл.
Утвердительный ответ Гончарова на последний вопрос не оставляет сомнений. Как оказалось, “карьера и фортуна“ в условиях новой эпохи уже невозможны без многолетнего пребывания в недрах “бюрократической машины“, “блеск, торжество“ писателя - без умения изображать не исключительную личность вроде персонажа александровой повести из американской жизни, но “героев, которые встречаются на каждом шагу, мыслят и чувствуют, как толпа“ (I, 44). Что дружба - это не “второе провидение“, но приязнь, не чуждая практических соображений и расчетов (I, 44, 42). Что и сама любовь, “это священное и высокое чувство“, состоятельна лишь в том случае, если не замыкается в “своей сфере“ (I, 42, 198), но включает в себя обязанности любящих друг перед другом и перед обществом. Не лишена она и сугубо материальных забот. Все это становится ясно читателю “Обыкновенной истории“ после знакомства с “романами“ Александра с Наденькой и Юлией Тафаевой, судьбу которых решили простые житейские причины: светское честолюбие Наденьки в первом случае и утомление самого героя, наскучившего эгоистической страстью Тафаевой, - во втором.
Печальный для Александра итог его героической позиции, по мнению романиста, вполне закономерен. Ведь в новой жизни абсолютные ценности уже обусловлены относительными, свобода индивида - его общественными обязанностями, интересы отдельной личности - нуждами и требованиями массы. Прав был Петр Адуев, заявляя: “Мы принадлежим обществу… которое нуждается в нас“ (I, 21). Поэзия современной действительности возможна лишь в ее связи с житейской прозой. Таков первый важный вывод “Обыкновенной истории“.
Это релятивистское миропонимание и поведение и подвергнуто, как было сказано, в свой черед строгой авторской проверке. При этом суд над Адуевым-старшим Гончаров вершит с позиций именно тех общечеловеческих ценностей (любовь, дружба, искренность и бескорыстие человеческих связей), которые Александр неоправданно отрывал от жизненной прозы, а Петр Иванович считал “мечтами, игрушками, обманом“ (I, 260).
Обозначившееся еще в конце второй части поражение Адуева-старшего в эпилоге произведения уже очевидно. Знаками его выступают физическая немощь, впервые посетившая дотоле преуспевающего Петра Ивановича, а еще больше - утрата им самообладания и уверенности в своей правоте. Показательны жалобы дядюшки на “судьбу“, иначе говоря - ту высшую жизненную истину, которая не далась ему вопреки всей его практичности. Точнее сказать, она-то и подвела героя. Неуклонно следуя своему разумению мира, Петр Адуев принес ему в жертву и счастье своей красавицы-жены. “Методичность и сухость его отношений к ней, - говорит романист, - простерлись без его ведома и воли до холодной и тонкой тирании, и над чем? над сердцем женщины! За эту тиранию он платит ей богатством, роскошью, всеми наружными и сообразными с его образом мыслей условиями счастья - ошибка ужасная...“ (I, 304). Окруженная комфортом, но не имеющая исхода для духовных и сердечных потребностей, Лизавета Александровна “убита бесцветной и пустой жизнью“ (I, 304). Но с нею теряло смысл, лишаясь своего человеческого оправдания, и “дело“ Петра Адуева.
Итак, “Обыкновенная история“ в равной мере развенчивала и отклоняла как архаично-героическое, так и позитивистское понимание “нормы“ современной жизни, союза личности с обществом и миром. Позиция Адуева-старшего оказывалась не противоядием, но всего лишь “дурной крайностью“ крайних же взглядов Александра. Она также обедняла современную действительность, которая, по убеждению Гончарова, отнюдь не утрачивала непреходящего человеческого содержания - поэзии, хотя эта поэзия была, по-видимому, уже принципиально иной, чем в баснословные времена.
16. Что такое «обломовщина» как художественное открытие И.А. Гончарова
В 1849 году появляется «Сон Обломова», у Гончарова начинает вызывать интерес к национальной жизни в целом и к возможностям изобразить национальный характер, то что сейчас принято называть менталитетом. Этим же интересовались романтики, но в другом ключе – интерес к экзотическому, к фольклору. Роман был написан очень быстро, за несколько месяцев, но обдумывал его автор очень долго (10лет). Потребовалось «вписать» Россию в мировую цивилизацию, чтобы понять внутренний и общий смысл романных событий. (Россия – Германия (Штольц), Англия (Фрегат Паллада)). Мнение Гонч. О национальном характере, прежде всего русском, оказывается очень сложным, нет ни прославления, ни осуждения.
«Обломов» - подведение итогов нац. Жизни. Как она сложилась за века крепостного права, накануне его отмены. Большая историческая эпоха завершалась, и, по эстетическим убеждениям Г., только в такие моменты нац.жизнь и могла стать предметом полноценного худ.обобщения.
В рус. романе 40-60гг появляется и становится очень важной классовая характеристика героя. У Тург., особенно у Гонч. это становится решающим обстоятельством формирования личности. Описывая детство Обл-ва, Г. почти с дидактической настоятельнсотью показывает нам эту связь личности и соц условий. Формирующее воздействие среды почти непреодолимо, и это демонсстрируется автором с такой настойчивостью, как это редко делалось в классическом русском романе. (обычно ответственность личности за свой выбор).В современном Петербурге патриархальный человек беспомощен, быт его почёркнуто безобразен.
Сам Обл. беспощаден по отношению к собственному бессилию изменить свою жизнь, он так же ясно понимает причинно-следственную связь между своим райским детством в Обломовке и нынешним жалким состоянием. Именно эта ясно осознания делает фигуру Обл. не только смешной, но и трагичной.
«Обломовщина» - это попытка заменить человека ярлыком, свести его к схеме, предсказать, вычислить все его будущие поступки. А для человека это страшно потому что, пока он жив, он непредсказуем, он хочет сохранить надежду на перемены.
17. Оппозиция «покоя» и «движения» в романе И. А. Гончарова «Обломов»
Глупо говорить, что «Обломов» неинтересен читателю. Мы и не будем. А зададимся лучше вопросом: почему читателю интересен роман со столь неяркой сюжетной линией? Дело в том, что главным источником конфликта в «Обломове» является сама натура героя. Его натура характеризуется двумя нравственно-психологическими устремлениями (ох, не согласен я вот с этого места со многим, ну да ладно): движение (как форма существования человека, его назначение) и усиленная в душе Обломова в детстве тяга к покою.
Что такое движение? Это нравственное совершенствование, это труд тела и души, это исполнение долга перед самим собой, перед своим Отечеством и Богом. Стоит признать, что в юности Обломов именно так планировал прожить свою жизнь. Генератором движения в жизни Обломова является Штольц. Фактически именно Штольц сблизил Ольгу и Обломова; Илья Ильич оказывается, волей случая, на Выборгской стороне и, неспособный к деятельной любви, в конце концов отказывается от борьбы за счастье с Ольгой. Оказавшись на выборгской стороне с Агафьей Матвеевной, Обломов фактически попадает в Обломовку: повторяется образ пирога, тяжелой еды, водки. Сам Обломов говорит, что это «продолжение того же обломовского, только с другим колоритом местности и, отчасти, времени».
Что же касается покоя, то, по мнению Обломова, вся работа, труд и самосовершенствование и есть «выделка покоя». Безусловно, это резонно; с другой стороны, тот покой, который выбирает для своей жизни Обломов, очень близок к угасанию души и всей жизни, что уже никак не может трактоваться как благо. Гончаров пишет об этом так: «Мотив погасания – есть господствующий в романе, ключом или увертюрой которому служит глава Сон». Обломов, которого Тургенев сравнивает с Платоном («истинный философ» как «чистый теоретик»), во многом находит свой покойный идеал и как противопоставление суетной жизни, которая представлена на страницах романа Волковым, Судьбинским, Алексеевым и т.д. Эта жизнь-суета машиноподобна, она по своей сути механистична и поэтому по-своему тоже мертва. Но покой Обломова, ведущий к угасанию, не является альтернативой жизни-суеты, но, скорее, просто ее обратной стороной.
Единственной реальной альтернативой является жизнь-движение, которую демонстрирует Штольц. Штольц соединяет в себе лучшие стороны прагматика и человека с тонкими потребностями духа. Но вообще-то это все к теме не относится.
18. Система женских персонажей в романе И.А. Гончарова «Обломов»
Любовная история у Г. имеет традиционные для рус.романа черты. Испытание героя любовью. Высокая нравственная требовательность героини также традиционна. Такова у Г. и Ольга Ильинская, любовь которой лишена непосредственности, а вырастает из желания переделать О., вернуть его к жизни (к тому же по предварительной договорённости со Штольцем). Образ Ольги вызывал разные оценки в современной критике, многим она казалась несимпатичной, не просто слишком жесткой, но и стремящейся к самоутверждению за счет других (Дружинин, Григорьев). Леворадикальная критика (Добролюбов), напротив, считала образ Ольги чуть ли не идеальным образом новой, эмансипированной женщины. Г., бесспорно, стремился создать положтельный образ. Она любила Шт. как друга, но чувствовала себя перед ним реббенком. Ни жеманства, ни кокетства, всегда вела себя прямо и естественно. Говрила она мало и о своем, её обходии кавалеры. Любила музыку, но пела втихомолку лишь Шт. или подруге. Ольга не была красавицей, но была очень грациозна и гармонична. Губы тонкие и сжатые; тёмные, серо-голубые глаза, брови густые никогда не лежали симметрично, ходила легко, немного вперёд наклоняла голову. После признания О. она стала задумчивее. Отношения с тёткой были очень просты и спокойны, бесцветны.
Агафья Матвеевна Пшеницына - кума Тарантьева, вдова с 2мя детьми, живет на Выборгской стороне. Женщина белая и полная, лет 30, бела и полна в лице, бровей почти совсем не было, вместо них две будто немного припухшие, лоснящиеся полосы, глаза серовато-простодушные. Руки белые, но жесткие, жилистые, платье сидело в обтяжку, крепкая, здоровая грудь, платье старое и поношеное. О. не просто сделал Пшеницыну счастливой, но в некотором роде и «пересоздал» её личность без всяких на то намерений, самим фактом появления в её жизни.
Анисья – кухарка, ходила на рынок, взяла на себя некоторые обязанности мужа (Захара), живая, проворная баба лет 47 с выдающимся носом, с заботливой улыбкой.
Тётка Ольги И. Марья Михайловна – умная, приличная, около 50 лет, модно и со вкусом одета, иногда читала, не писала, не трудилась, говорила по фр, нельзя было застать её врасплох.
Мать Штольца – русская, баловала сына, в отличие от отца. Играла на пианино, жила гувернанткой в богатом доме, была за границей.
МИЛИТРИСА КИРБИТЬЕВНА
19. и 21 вместе, потому что концепция лювби Г. неотделима от жен. образов, т.к.: любовь выступает здесь главным и решающим учителем героя, в особенности женщины. (отсюда можно радостно отвечать на оба вопроса одними словами=)).
В 1869 году вышел в свет последний роман Гончарова - задуманный еще двадцать лет назад. В нем, как и прежде автора волновали «общие, мировые, спорные вопросы» - «о религии, о семейном союзе, о новом устройстве социальных начал, об эмансипации женщины и т. п.». Однако здесь все эти проблемы в значительно большей степени, чем в «Обыкновенной истории» и «Обломове», преломлены через «отношения обоих полов между собою» и выступают в форме различных трактовок любви, «образов страстей», представленных в романе «на первом плане». Это обстоятельство придает «Обрыву» характер своеобразного «эпоса любви», обязывая объяснить гончаровскую концепцию любви вообще (см. ниже).
Важнейшая формообразующая и характеристическая роль любви в гончаровском романе - прямое следствие этой концепции. Любовь выступает здесь главным и решающим учителем героя, в особенности женщины.
Фабульно-сюжетным стержнем произведения стал поиск Борисом Райским, «художником от природы», наделенным «избытком фантазии и тонкою нервною организацией» (VIII, 214), женщины, достойной его идеала любви и одновременно послужившей бы прототипом для героини задуманного им романа.
Согласно хр-ву, истина воплощена в Богочеловеке и Его благовесте. В романной трилогии Г. залогом истины выступает прежде всего одухотворенная каритативным началом любовь между муж. и жен. Она не искл-т ни страстного влечения, ни обожения его. Этот акцент на духовно-каритативном начале любви позволяет Г. обогатить ее и этическим началом долга. И если тург. пытался совместить любовь и долг, то Г. соединяет их в самой истине любви как любви-долге.
Такова Вера, героиня, выросшая в обстановке патриархальной дворянской усадьбы (и города), но, благодаря свойственным ее характеру «инстинктам самосознания, самобытности, самодеятельности», не удовлетворенная формами и понятиями старой жизни, и традиционной судьбой женщины прежде всего. Истина Вериной высокодуховной «вечной» любви-долга станет тем дороже, что она искушена и оплачена страшной ошибкой - страстью к нигилисту Марку Волохову и «падением» Веры (христ. мотивы, развитие образа по параболе, как в еванг. притчах: из Веры-ночи преображается в Веру-статую, но не холодную и непробужденную, а одухотв-ую еванг заветами и ими оживленную и гармонизированную). В лице этой новой Веры предвосхищена будущая фаза человеческой истории, в ктр внешняя красота, обретя душу, станет цельной и совершенной.
Идеал Веры, как и Ольги Ильинской, - любовь-долг. Эта важнейшая формула Гончарова родилась, несомненно, с учетом и в полемике с той трагически неразрешимой коллизией любви (счастья) и требований действительности (долга), жертвой которой являлись герои тургеневских повестей 50-х годов («Переписка», «Фауст», «Ася» и др.) и романов. Она призвана, снимая тургеневский трагизм, открыть оптимистическую перспективу взаимоотношений личности с современностью. Обязанности человека перед действительностью как бы вводились Гончаровым в содержание самой любви, что делало ее реальной, а не призрачной и беспочвенно мечтательной. Тем самым любовь позволяла, считал Гончаров, слить в поведении, жизни личности интересы и ценности абсолютные с относительными, внутренние с внешними, «вечные» с «конечными», наконец, непреходящие с текущими. Образ такой любви в романе вместе с тем обеспечивал бы и неугасающий интерес к нему читателей будущих поколений. Правда, в трактовке обязанностей любящего перед обществом Гончаров не выходил за пределы духовно-нравственного аспекта, ограничивая эти обязанности нравственным участием в судьбах окружающих.
Вера толкует долг прежде всего как обязанность перед самой любовью, которую любящие должны сохранить до конца своих дней. Именно такая «вечная», «бессрочная любовь», по убеждению героини, и придаст ей нравственно-результативный смысл, позволив создать гармонический семейный союз - ячейку нового общества. Уточнение это - результат полемики Веры (и автора «Обрыва») с «правдой» Марка Волохова, проповедующего «любовь на срок», то есть как чисто чувственные отношения между любящими, без нравственных обязанностей друг перед другом.
С появлением в конце второй части «Обрыва» Веры главный интерес произведения переходит к ней и к другим женским персонажам. Роман принимает вид своеобразной иерархической экспозиции различных видов любви, в той или иной степени отдаляющихся от любовной «нормы» Веры и соответственно этому неполных, ошибочных или искаженных, уродливых.
Софья Беловодова: Г. начинает изображение любви, искаженной условно-кастовыми понятиями высшего света. С. – холодная мраморная статуя. Тщетно пытается Райский пробудить сердце Софьи, не больше успел в этом итальянец Милари: едва зародившийся интерес Софья к нему угас под давлением аристокр-х предрассудков и требований «хорошего тона».
Нежной, преданной, но безропотно-жертвенной была любовь к Райскому простой белошвейки Наташи, ее «чистый, светлый» образ напоминал герою «Перуджиниевскую фигуру» (Возрождение и все дела). Но само это чувство односторонне, узко и по господствующему тону (здесь все замешано на безответной горести лишь с редкими проблесками робкого счастья), и по сосредоточенности на самом себе. Чувствительная, нежная и вместе с тем слабая, нежизнеспособная героиня выглядит архаичной, как бы сошедшей со страниц повестей XVIII-XIX веков, и не случайно названа райским в его «эскизе» о ней «бедной Наташей». Разница в развитии и эмоц. запросах обрекли «бедную Наташу» (= бедная Лиза) на смерть.
Татьяна Марковна Бережкова: глубокая, пронесенная через всю жизнь, потаенная любовь к ней Тита Никоныча Ватутина. Связанные словом, однажды данным сопернику Ватутина, они не создали достойного их любви союза. О потаенной любви и драме Бережковой и Ватутина романист рассказал в жанровой традиции рыцарской повести.=> такая любовь далека от современности и истины, архаична.
Для Марфеньки любитьь – значит просто выйти замуж, причем с одобрения и благословения бабушки. Сформированная понятиями окружающего ее патриархального быта (как Софья Беловодова наставлениями теток), Марфенька не ведает «страстей, широких движений, какой-нибудь дальней и трудной цели» и являет собою, по словам Гончарова, «безусловное, пассивное выражение эпохи, тип, отливающийся, как воск, в готовую, господствующую форму». Напрасно Райский пытался разбудить ее от душевного сна - он преуспел так же мало, как и в случае с Софьей Беловодовой. Да героини эти и схожи, как прямые крайности. Правда, Марфенька выходит-таки замуж за молодого чиновника Викентьева, но «роман» ее, лишенный духовного содержания и целей, едва ли отличен от жизни Беловодовой.
Особый тип любви – Райский. Он, как и Дон-Жуан, довольно быстро охладевает к очередному «предмету» своего поклонения, так как и увлечен, по существу, не реальной женщиной, но образом, сотворенным его фантазией. Он забывает Наташу ради Софьи Беловодовой, Софью - ради Марфеньки и, наконец, их всех ради Веры, к которой переживает наиболее длительную, бурную и мучительную страсть. Но и Веру Райский «любит… только фантазией и в своей фантазии. За ее наружною красотой он без всяких данных видел в ней и красоту внутреннюю, как воображал себе последнюю, и видит упорно то, что ему хочется видеть, не допуская, что она может быть другой. Зато он и охладел к ней в один вечер и тотчас утешился, когда узнал, что она принадлежит другому...»
Разнородные виды любви образуют продуманный ряд, соотнесенный с основными периодами человеческой истории, а также и ее целью, как разумел ее художник. Так, Софья Беловодова с ее бесстрастной и бездуховной красотой мраморной статуи (это сравнение постоянно сопровождает Софью, имя которой также исторически значимо), и чувственно-страстная, но безнравственная Ульяна Козлова, в облике которой проступал «какой-то блеск и колорит древности, античность формы», призваны символизировать античное, дохристианское понимание идеала любви и женской красоты (в Греции и в Риме), а вместе с тем и «нормы» жизни. Татьяна Марковна Бережкова и Ватутин выполняют ту же задачу по отношению к аналогичным средневековым, рыцарским концепциям с их высоким платонизмом и верностью прекрасной даме-избраннице. «Роман» Марфеньки и чиновника Викентьева не случайно аттестован Райским как «мещанский». Он действительно не выходит за пределы бюргерско-филистерского понимания счастья с его эгоистической замкнутостью и ограниченностью и вполне способен этот мещанский период истории представлять. Не забыты Гончаровым и такие относительно недавние эпохи, как сентименталистская и романтическая с их нормами и формами страстей, носителями которых в «Обрыве» являются «бедная Наташа» (ср. с названием знаменитой повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза») и идеалист-фантазер Райский с его культом женской красоты.
Истину же современной любви (и семьи) призвана была символизировать любовь Веры и Ивана Ивановича Тушина. Заволжский лесовладелец и лесопромышленник и вместе с тем «простой, честный, нормальный человек», Тушин задуман русским Штольцем, якобы сумевшим на деле достигнуть единства между личными и общественными интересами.
Философско-эстетические корни этой философии любви: Бросается в глаза ее типологическое сходство с учением немецких романтиков, видевших в любви «космическую силу, объединяющую в одно целое человека и природу, земное и небесное, конечное и бесконечное и раскрывающую истинное назначение человека и смысл природы»16. Воззрения эти были широко распространены среди русской интеллигенции 30-40-х годов. Но благодатной почвой для аналогичных идей была и сама русская действительность, лишенная общественной свободы (Герцен) и политических возможностей ее гуманизации. Это поясняет, почему на «всеобнимающую любовь» уповает даже писатель-демократ Н. А. Некрасов. И тем скорее подобная концепция возникала в сознании художников, чуждых революционным преобразованиям. В 60-е годы мы встречаем ее, наряду с Гончаровым, и у поэта и драматурга А. К. Толстого.
Вообще о любви в его романах, о концепции любви гончарова:
Любовь занимает, по существу, центральное место в романах Гончарова. «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв» - произведения не просто с любовным сюжетом, но о видах и типах любви в их различиях и противоборстве. Так, за исключением картин «обломовщины» и «штольцевщины», роман «Обломов» сводится к изображению двух контрастных видов любви: Обломова и Ольги, Ольги и Штольца. Да и союзы Обломова с Пшеницыной, Захара с Анисьей - варианты того же чувства. Главной, «лучшей» стороной и ценностью жизни любовь представляется отнюдь не только Обломову, но и Лизавете Александровне («Обыкновенная история»), Ольге Ильинской. Наконец, и Штольц проповедует ту же философию. Герой этот не только посвятил «много мыслительной работы» - «сердцу и его мудреным законам», но и «выработал себе убеждение, что любовь, с силою Архимедова рычага, движет миром; что в ней столько всеобщей, неопровержимой истины и блага, сколько лжи и безобразия в ее непонимании и злоупотреблении».
Это было одно из коренных убеждений и самого автора. «Вообще, - признавался романист, - меня всюду поражал процесс разнообразного проявления страсти, то есть любви, который, что бы ни говорили, имеет громадное влияние на судьбу - и людей и людских дел».
Перед нами, вне сомнения, одна из законченных философско-художественных концепций. Она, в частности, не приемлет той трактовки любви и ее места в жизни, с которой выступили в 60-е годы русские писатели-демократы. «Привычка изображать любовь, любовь и вечно любовь, - писал Н. Г. Чернышевский в диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» (1853), - заставляет поэтов забывать, что жизнь имеет другие стороны, гораздо более интересующие человека вообще… к чему выставлять на первом плане любовь, когда дело идет, собственно говоря, вовсе не о ней, а о других сторонах жизни»9. «Правду сказать, - как бы парировал Гончаров, - я не понимаю этой тенденции «новых людей» лишать роман и вообще всякое художественное произведение чувства любви и заменять его другими чувствами и страстями, когда и в самой жизни это чувство занимает так много места, что служит то мотивом, то содержанием, то целью почти всякого стремления, всякой деятельности, всякого честолюбия, самолюбия и т. д.»10.
Выводы: Через совокупность «образов страстей» в «Обрыве», таким образом, воспроизведен ход самой истории, понятой как постепенное духовно-нравственное обогащение человеческих отношений, и прежде всего «отношений… полов». Роман был призван показать итоги этого движения и определить его цели. И надо сказать, что и масштабность задачи, и сам подход к ее решению были в духе русской романистики 60-70-х годов
20 и 22, потому что из конфликта «старой» и «новой» правд следует как вывод смысл названия романа .
Сюжет романа драматизирован 2 коллизиями, навеянными общ-ми ситуациями 60-х, но как всегда у Г., универсализированными. 1 – конфликт отцов и детей: Татьяне Марковне vs ее внуки Б. Райский и Вера. По мысли Г. виновны в нем и Бабушка: невнимание к нравственным исканяим молодежи и требование беспрекословного послушания -, и мыслящая молодежь: гордыня, толкнувшая на поиск истины в одиночку, без помощи любящей ее Бабушки. Вечный уровень этого конфликта усилен восприятием художником Райским: все происходящее подано как высокая драма + пафосные лейтмотивы Греха (Вины), Раскаяния и Искупления (Воскресения).
Во 2 конфликте Вера – приверженец «вечной» правды Христа VS Марку Волохову, проповеднику «правды» новой – атеистической и антихристианской. Этот конфликт – неразрешимо-антагонистический, и отражает неприятие Г. материалистических, револ-х и позитив-х идей Черн. и Писарева (напомню: с ними он познакомился в 63-65 как цензор «Современника» и «Русского слова»).
Эти «правды» = полярные трактовки любви (см. выше). Для Волохова это – взаимное физ влечение, привязанность на срок без нравств-х долгов, правил и проч. Для Веры любовь нераздельна с супружеством=> чувство бесконечное, исполненное долга «за отданные друг другу лучшие годы счастья» (все-таки Г. неисправим! Могу поспорить, что он так не думал, но иметь идеал ведь так приятно).
ВНИМАНИЕ: в первонач. замысле между Волоховым и героиней завязывался роман, приведший, как и в окончательном варианте «Обрыва», к «падению» и «драме Веры». НО выходом из нее был не разрыв героини с Волоховым, но, напротив, соединение с ним и последующий отъезд в Сибирь - вслед за переведенным туда героем. В этом решении Веры (в первоначальном замысле) Гончарову была дорога, таким образом, не идейная мотивировка, но высокий подвиг женской любви (см. выше).
В закл. варианте Вера по-прежнему увлекалась Волоховым, но лишь им, а не его идеями; желая спасти незаурядного, заблудшего, как она полагает, человека для общества, героиня ведет на свиданиях с Волоховым упорный спор с ним, пытаясь обратить его в свою правду «любви-долга». В этой борьбе герои, измученные страстью, настолько изнемогают физически, что в «падении» Веры во время их последней встречи, по существу, виноваты оба или никто. Однако Гончаров возлагает ответственность и за «падение», и за ошибку-драму Веры, от которой она оправится нескоро, прежде всего на Марка Волохова и его «новую правду». Здесь художник впадает в известную тенденциозность, справедливо отмеченную демократической критикой.
Преломление мировоззренческого поединка В. и М. через отношения «полов» стало новейшей вариацией вековой схватки между верой и неверием, Христом и антихристом, велением нравст. Долга и позицией аморалист-ой безответственности.
А обрыв – это собственно трагическая ошибка Веры, ее «падение» = обрыв всей русской молодежи на пути к подлинной «норме» любви, семьи и общ-ва.
И все-таки последний роман Гончарова заканчивается, как и предыдущие, отнюдь не оптимистическими итогами. Разлучив Веру с материалистом Волоховым, художник одновременно отказался и от намерения соединить ее в счастливом семейном союзе с Тушиным. Суровая правда действительности, чутко ощущаемая романистом, вновь внесла решительный корректив в творческий замысел. Гончаровский идеал присутствует в «Обрыве» как возможность бытия, но едва ли реальная в условиях русской современности. Они по-прежнему остаются несовместимыми.
Художественное время в романе. Люди эпохи 40-х годов Х1Х в., историческая и культурная судьба поколения, достоверность и философский пафос. Образ Дмитрия Рудина. (Выписать философские афоризмы Рудина, связанные с темой судьба человека, смысл его жизни, земное и вселенское предназначение). Скандинавская легенда о птице как зерно философского сюжета.
Дмитрий Рудин и Наталья Ласунская: любовная коллизия в романе, философия любви и этика человеческих отношений. Главные сцены и эпизоды. Какой эпизод Вы считаете кульминационным: Почему?
Рудин и Лежнев: диалогический конфликт, проблема выбора жизненного пути (западничество, оторванность от «почвы» национальной жизни и животворное чувство Родины; бесприютное скитальчество по дорогам жизни и созидание «дома», «гнезда», добровольное отречение от покоя, счастья и их обретение). Тема дружбы в романе.
Особенности композиции романа: предыстория главного героя, образы природы и искусства, двойной эпилог (философский и событийный). Тема Гамлета и Дон Кихота, роман «Рудин» и статья И.С.Тургенева «Гамлет и Дон Кихот».
ЛИТЕРАТУРА:
Тургенева И.С. «Рудин», любое издание.
Бялый Г.А. Русский реализм: От Тургенева к Чехову. – Л.: Сов.писатель, 1990, гл. 4, с.64-98. Или: Бялый Г.А. Тургенев и русский реализм. – М.-Л.: Сов.писатель, 1962, гл. 4, с.58-94.
Маркович в.М. И.С.Тургенев и русский реалистический роман Х1Х века. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1982, гл.3, с.109-134.
Лебедев Ю.В. Тургенев. – М.: Молодая гвардия, 1990, с.307-314.
Практическое занятие № .
Проблема героя и времени в романах и.С.Тургенева «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети»
Роман «Дворянское гнездо»: художественное время в романе, Федор Лаврецкий как человек эпохи 40-х годов. Проблема исторической вины дворянства перед народом, ее воплощение в судьбах Лаврецкого и Лизы Калитиной. Любовная коллизия в романе, образы музыки и природы.
Роман «Накануне»: образ исторического времени и проблема «сознательно героической натуры» (Елена Стахова, Дмитрий Инсаров). Концепция романа в статье Н.А.Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» и авторская философия жизни человека в романе.
Роман «Отцы и дети». Концепция романа и образа главного героя в статьях Н.Н.Страхова и Д.И.Писарева. Базаров как художественная версия образа «сознательно-героической натуры». Трагическое в романе и в судьбе Евгения Базарова.
Историческое и вечное в романах И.С.Тургенева.
ЛИТЕРАТУРА:
Тургенев И.С. «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети» (любое издание).
Добролюбов Н.А. Когда же придет настоящий день? (любое издание).
Роман И.С.Тургенева «Отцы и дети» в русской критике. – Л., 1986 (статьи Д.И.Писарева, Н.Н.Страхова).
Бялый Г.А. Русский реализм: От Тургенева к Чехову. Л., 1990. Или: Бялый Г.А. Тургенев и русский реализм. – Л., 1962.
Маркович В.М. И.С.Тургенев и русский реалистический роман Х1Х века. – Л., 1982.
Лебедев Ю.В. Тургенев. – М., 1990.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Писарев Д.И. Сочинения в 4-х тт. М., 1955-1956. Или: Писарев Д.И. Литературная критика в 3 т. – Л., 1981.
Страхов Н.Н. Литературная критика. – М., 1984.
Практическое занятие № 5.
Временное и вечное в современной поэзии “Одна из заслуг литературы, – говорил И.Бродский, – в том и состоит, что она помогает человеку уточнить время его существования, отличить себя в толпе как предшественников, так и себе подобных, избежать тавтологии, то есть участи, известной иначе под почетным именем “жертвы истории”. В нашей частной жизни, так же, как и в общественной, ситуация выбора существует постоянно. Мысли, чувства складываются в прихотливом рисунке культуры, и в этом разноликом орнаменте бытия мы читаем самих себя. Ритм жизни сегодня, как никогда ранее, согласуется с основным формальным показателем поэтического слова – ритмом речевой формулы для выражения множественности смыслов (как индивидуальных, так и присвоенных многими). Русскому поэтическому языку удалось сохранить те звонкие линии, которые были разработаны еще в XVIII веке. Державинская “река времен” оставляет на берегах (“чрез звуки лиры и трубы”) то, что мы называем традицией, но постоянно обновляющиеся воды приносят и новые организмы – порождение нового времени. Поэзия вообще, а русская в частности, всегда оказывалась впереди истории. Только так удается избежать клиширования, совершить индивидуальный эстетический (а иногда и этический) выбор. Из уже далекого серебряного века с читателем ведут свой частный разговор поэты, которых нет среди живых. Тепло дыхания ушедших оставило свой отпечаток на “стеклах вечности”. Живущие сегодня поэты часто остаются в их тени, не входят своими стихами в школьные хрестоматии, не издаются массовыми тиражами, не лежат книгами своих стихотворений в книжных магазинах.Поэзией интересуются только лишь любители поэзии. Но кризис общества не всегда влечет за собой кризис культуры. Век вновь расшатался, но тихий разговор поэта с читателем продолжается. Мы одержимы пеньем. И вновь, в который раз, Ты с ангельским терпеньем Выслушиваешь нас. О, слушатель незримый, За то, что ты незрим, От всей души ранимой Тебя благодарим. Чего душа алкала - Не ведает сама. От нашего вокала Легко сойти с ума. Но ты не устрашился. И, не открыв лица, Нас выслушать решился До самого конца. (Лариса Миллер) Сегодня пишут в рифму и без, соблюдая классические ритмические рисунки и нет, длинно и коротко, умно и “заумно”, придерживаясь правил грамматики и без знаков препинания и оглядок на нормы. Пишут разнообразно, ни одно периодическое издание не выполняет миссию “законодателя вкуса”. Тем больше требуется от читателя – стихи надо уметь читать. Например, такие: продевая сквозь мир где отсутствует связь и уток непомерную эту суровую эту основу расползается ткань бытия как истлевший платок как дорожка гнилая но снова и снова и снова опускаются весла чтоб воду устало толочь и тянуть эту нить что одна этот путь искупала и опять эта флейта пронзительно воет всю ночь потерялась в пространстве галера и время пропало (Владимир Строчков) Как можно понять отказ от знаков? Непрерывность, взаимозаменяемость в порядке слов, дискретность, разобщенность внутри языка – “отсутствует связь и уток”. Тысячи тонн словесной руды перерабатываются, прежде чем извлекается драгоценный грамм радия – соответствие мысли, чувства, впечатления, мгновения и слова. Стихи Светланы Кековой, Сергея Гандлевского,
Натальи Горбаневской, Игоря Меламеда, Бахыта Кенжеева, Ольги Седаковой, Олеси Николаевой, Владимира Строчкова. Ларисы Миллер, Надежды Павловой, Семена Липкина, Евгения Рейна, Тимура Кибирова, Д.А.Пригова, Л.Рубинштейна… Модные и спрятанные в глубине страниц “Звезды”, “Нового мира”, “Ариона”, других “носителей” современной словесности. “Хотелось бы всех поименно назвать…” Кто поёт в терновнике, кто в овсе, кто во ржи, кто кропает эссе в поле у межи, но все, все, как один, виновники… (Владимир Строчков) Помогает поэзия задать вопрос? Не ответ найти – поиски Ответа вечны… Вопросы важнее. В чем основа для современного человека? В отсутствии основы? В Боге? В многоликом и лабиринтоподобном языке культуры? Каждый “виновник” предлагает свое прочтение времени и вечности. Завершая земные труды, я хочу напоследок шепнуть: “Где оставлены были следы, там и был твой единственный путь”. Я уже понимаю с трудом, что за жилка дрожит на виске, и зачем твой единственный дом возведён на сыпучем песке? … С голубой незабудкой в руке Ангел твой над землёй пролетит, и воскреснет вода в роднике - и в сиянье себя превратит... (Светлана Кекова) Поновому выкладывается рисунок в калейдоскопе из осколков блоковского “Ночь. Улица. Фонарь. Аптека”. Прерывность и непрерывность бытия проступает в стихах концептуалистов и поэтов“метафизиков”. То тяготы и тревоги. То надежды и утешения. То небо над Аустерлицем. А тут еще и решение какоенибудь подоспеет... То клейкие листочки. То сопоставь каждое с последующим и предыдущим. То становится совершенно ясно, что бесконечно это продолжаться не может. А тут еще и конца не видно... (Лев Рубинштейн) Сегодня нет андеграунда, не нагнетается гражданский пафос поэзии, публичные выступления поэтов сменились биеннале. В ОГИ приходит Кенжеев и читает свои стихи… Не все выходят в прокуренные кафе с книжными полками и книгопродавцами с зачитанными глазами. Современная поэзия стесняется пафоса вообще, отказывается от открытой эмоциональности. Нередко визуальный опыт прочтения становится главным – стихи Рубинштейна пишутся на каталожных библиотечных карточках. Позже это становится частью жанра его стиха. У концептуалистов главным героем становится сам язык, сам текст, философия жизни считывается с набора жестов, выпадов, специально выстраиваемых и затем заполняемых пустот. Я с домашней борюсь энтропией Как источник энергьи божественной Незаметные силы слепые Побеждаю в борьбе неторжественной В день посуду помою я трижды Пол помоюпротру повсеместно Мира смысл и структуру я зиждю На пустом вот казалось бы месте. (Д.А.Пригов)
В интервью Инге Кузнецовой (опубликованном в “Вопросах Литературы”, 2003, № 6) Лариса Миллер так сформулировала личный опыт поэта: “Чем выше энтропия, тем сильней у меня потребность в гармонии. Я настолько боюсь хаоса, я настолько его чувствую в мире, вокруг… Стихотворение - это как лодочка, на которой я должна удержаться. Гармония стиха, даже при трагическом его содержании, сама является спасательным кругом”. Кремнистый путь, манивший Лермонтова, притягивает и наших современников. Каждый посвоему преодолевает уже не каменья, а каменное равнодушие со стороны потенциальных собеседников читателей. Для Светланы Кековой это постижение христианского отношения к миру: “Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите”. Человек живет, и человек пишет – говорит Кекова. Через страх, молчание, без цели быть услышанным многими. Преодолевший тягостное молчание, Олег Чухонцев напряженность такой исповеди доверяет стиху: Векзаложник, каинова печать на устах и на раменах. Можно все взорвать и опять начать, можно все, но убивец страх... Я хочу, я пытаюсь сказаться, но вырывается из горла хрип, как из чайника, выкипевшего давно до нутра, и металл горит. Должен ли современный поэт сквозь внешние эксперименты “чувства добрые лирой пробуждать”? “Конечно же, должен! А вот как это сделать, какие именно чувства считать добрыми, и возможно ли это вообще – это и есть самые насущные вопросы литературы. Ну, а “восславить свободу в наш жестокий век” – это, без вопросов, прямая обязанность каждого стихотворца”, – отвечает Тимур Кибиров. Эксперименты с формой обусловили общее поле полистилистики. Стили сбиваются на одном участке текста, голоса перебивают друг друга, утверждают друг друга. В современной поэзии каждый найдет то, что ищет. Только нужно достаточно долго искать. Метафизическое ощущение жизни, протекающей здесь и сейчас, но обретающей смысл на почве неких, зачастую непроговариваемых, ценностей. Слово поэзии проговаривается с усилием, и приглушенным оно звучит еще более загадочно, приглашает поучаствовать в “тишизнах” мысли. Определяя частность и всеобщность бытия. Вопросы и задания Помните, у Ахматовой стихи растут – как одуванчик, лопухи, лебеда, у Цветаевой они тоже растут – как звезды и как розы. А расти можно на подходящей почве. На разной земле растет виноград (“распускается цветок винограда”) и цветет эдельвейс. Чьи стихи обрели свою почву в вас? Что оказалось близким, что заинтересовало, с чем вы готовы поспорить. Напишите сочинение о поэте, которого вы для себя открыли. Работая в группах, подготовьтесь к семинарскому занятию “Формы и “содержания” современной поэзии”: 1 группа – поэтылианозовцы, 2 группа – поэты объединения “Московское время”, 3 группа – поэты“метафизики”, 4 группа – поэтические индивидуальности, 5 группа – поэзия русского рока. Примечания Статья больше напоминает эссе, чем конспект урока. Здесь трудно устанавливать методические раскладушки. Разговор о поэзии возможен тогда, когда есть готовность у всех, кто в его зону вступает. Степень этой готовности определяется исходя из конкретной ситуации. Само содержание статьи заключает в себе ряд проблемных вопросов, начиная с заголовка. Можно остановиться на любом участке и рассуждать о времени, о поэзии, о себе. Стихи читаются учителем, но могут подключаться и старшеклассники, каждому на уроке выдается небольшой сборник стихотворений современных поэтов (составленный учителем), сопровождаемый списком литературы по теме. Материалы могут использоваться при подготовке лекции, в зависимости от личных установок определяются и жанровые особенности урока (лекция с элементами беседы, коллоквиум и т.п.)
Список литературы 1. Перельмутер В. Реквием по запретной любви(III)// “Арион” 2000, № 1. 2. Шайтанов И. В “конце века” - в начале тысячелетия // “Арион” 2003, № 4. 3. Штыпель А. Размышления практикующего стихотворца // “Арион” 1997, № 4. 4. Миллер Л. В творческой мастерской. Лодочка формы // “Вопросы литературы” 2003, № 6. 5. Кекова С. В творческой мастерской. “А стихи – тонкая материя…”// “Вопросы литературы” 2002, № 2. 6. Кекова С. Халкидонские лилии// “Знамя” 1998, № 7. 7. Кекова С. Созвездие спящих детей. Стихи// “Знамя” 2003, № 7. 8. Кибиров Т. “Кто куда – а я в Россию…”. М., “Время”, 2001. 9. Миллер Л. Стихи о стихах. М., “Глас”, 1996. 10. Гандлевский С. Два стихотворения. Стихи// “Знамя” 1999, № 5. 11. Гандлевский С. Два стихотворения. Стихи // “Знамя” 2004, № 1. 12. Кенжеев Б. Стихотворения последних лет. М., 1992. 13. Кенжеев Б. Цикада в горсти. Стихи// “Новый мир” 2003, № 6. 14. Пригов Д.А. Конверсия. Стихи// “Знамя” 2001, № 5. 15. Рубинштейн Л. Случаи из языка. СПб, издво Ивана Лимбаха, 1998. 16. Николаева О. Здесь. Стихи и поэмы. М., “Советский писатель”, 1990. 17. Седакова О. Стихи. М., "Гнозис" – "Carte blanche", 1994 (послесловие С.Аверинцева). 18. Горбаневская Н. Восьмистишия военные. Стихи// “Звезда” 2003, № 3. 19. Строчков В. Руины. Стихи// “Арион” 2000, № 2. 20. Меламед И. Гроздь воздаяния. Стихи// “Новый мир” 2002, № 2. 21. Чухонцев О. Меликой и вокабулами. Стихи// “Знамя” 2003, № 4. 22. Рейн Е. Темнота зеркал. М., “Советский писатель”, 1990. Приложение Темы и мотивы лирики современного поэта Говорить о любви и о Боге и вопросы себе задавать. Светлана Кекова Говоря о современном поэте, нельзя смешивать временное его пребывание в мире с современностью его стиха. В стихах – вечное, истина, которая не может быть детерминирована конкретностью хронологии. Тонкая поэтическая мистерия подвластна немногим; лишь тот, кто чувствует незримые связи между вещами, кто эту соотнесенность явлений зримого мира понимает от истока, может найти драгоценные словесные формулы для выражения вечного. Поэт – посредник между вечностью и человечеством. Бывает такой эффект узнавания: когда читаешь стихи и можешь даже не понимать, о чем они, но ты чувствуешь: это твое. Совпадение мироощущений? Стихотворения Светланы Кековой публикуются почти во всех литературных журналах, о ней пишут статьи Григорий Кружков и Бахыт Кенжеев, ее “творческая мастерская” привлекает и журналистов, и профессионаловфилологов. Зеркала поэтических строк… В них отразились небо и земля, летающие рыбы и плывущие в глубине океана птицы, пространство и время, паруса дней и воздушные пределы души. Сама же поэтесса находит символ для своей метафизической поэзии – лестница Иакова. Куда же ведет лестница ее стихов? Любовь и Бог – то неопровержимое, что выше человеческих сил, то, что существует независимо от наших желаний в нас самих. Любовь и Бог держат на себе весь мир, мир поэтической мысли… И еще сказал Он речной воде, и песку морскому, и стае птиц, что любви сиянье живет везде, отражаясь в тех, кто не прячет лиц. Есть такая строчка псалма: “Всякое дыхание да хвалит Господа”. По Кековой, в этом истинная задача поэзии. В наше время религиозная культура и привлекает, и отталкивает людей. Найти точку опоры для “самостоянья” стремится каждый, но, испытывая судьбу, всегда возвращаемся к первичным основам бытия. Стихи – выражение души, а душа и совесть человека знают больше, чем способен постичь ум. Двадцать пять лет Светлана Кекова преподает литературу, она человек высокой филологической культуры, и совершенно органично образы ее
поэзии сплетают единство мира в слове Бог. Он везде, как первопричина, как итог поэтических раздумий о мире и человеке в мире: в запахе клевера, в щебетании птиц, в величии деревьев… Я скажу негромко, минуя красоты слога: “В небе вьется птица – пернатый помощник Бога”. Поэт, чтобы сказать, должен услышать, почувствовать и понять то, что скрыто от обывательского глаза, уха, разума: … и вижу – в одежду из ситца оделись лесные цветы. Искусство питается страстями, несет в мир соблазн познания. В ритме строки пульсирует любовь и понимание собственного дара. Главное в поэте – именно осознание этого дара и принятие всего груза ответственности за возможность “рассказывать” людям душу. Дар позволяет проникнуть в неведомые глубины мироздания, подчинить перу ловкое слово, найти нужный ритм, достичь гармонии мысли и чувства. Созрели коробочки мака, зарос лопухами овраг, а слово выходит из мрака и снова уходит во мрак. Его не поймаешь, не скроешь, не спрячешь навеки – увы – среди разноцветных сокровищ растущей на воле травы. Его драгоценного смысла не может коснуться пророк. Висят над водой коромысла как повод читать между строк… А между строк, за каждым словом стиха – “прозрачная, как вода в горсти”, душа. Душа, обитающая в мире, где “небо – всему основа”, строительство дома начинается с красного угла, “чтобы было где.. поставить икону Спаса”. И под каждым мигом – его ладонь, и в глубинах вечности смерти нет, в сердцевине мира горит огонь, а любая тьма укрывает свет. Что это за мир? Иллюзия он или индивидуальная реальность, скрытая от посторонних глаз? Мир этот – невесомое пространство, созданное из “бликов” “тоской ума, игрой воображенья”, здесь различим “закон сердечного движенья”, здесь пролегают дороги души. Душа же Светланы Кековой идет по следам слов: … а душа летит в этот слепящий мрак. Поэтесса живет в мире, где время течет по церковному календарю, свободу ограничивает лишь небо, где “деревьев стоят иконы”: У любви на краю я в пространстве и времени этом на коленях стою перед словом, цветком и предметом… В поэтических текстах Кековой ощущается особая чуткость к растительному миру. Травы, цветы для нее – это совершенный образ молитвы. В них безыскусная красота, абсолютное отсутствие агрессии. Стихии земли, воды, воздуха влекут поэтическое сознание С.Кековой: очень хочется иметь крылья, плавники, листья и бутоны… – Зачем Ты, о Боже, меня покарал, лишив меня крыл голубиных? – – Не нужно себя разрешать от оков, как воду реки – от воды родников: попробуй достать изпод спуда простую надежду на чудо. Разговоры с Богом рождают в стихе Кековой бесконечное количество вопросов, которые она задает не только себе, но и читателю. Стараясь ответить на них сама, она не лишает и нас права голоса, оставляя между строк пространство, в котором каждый “выводит свою ступень”. Лестница Иакова… Но как, скажи, нам научиться на перекрестке двух дорог так полюбить цветок и птицу, как человека любит Бог? Слова – носители мироощущения, вспыхивающие в сознании монограммы бытия: …Я губами ловлю невесомые капли, вылетает душа из обители тесной… Она никогда не возвращается к своим уже написанным стихам. Отношения с прошлым всегда сложны: жизнь оказывается разбитой на отрезки, части. С. Кекова настойчиво ищет скрепу, связующую идею собственной
жизни и поэзии. Ее стихи – звезды, а “если звезды зажигают, значит это комунибудь нужно”, особенно, если эти звезды выстроились дорожкой в Млечный путь, на который Кекова приглашает ступить и увидеть мир сверху… А ночью, когда над водою взойдет Волопас и звездное стадо погонит кудато на север, вы вдруг ощутите, как пахнут ромашка и клевер – и радости вашей никто не отнимет у вас. Высота христианского отношения к миру выражена для поэтессы в словах апостола Павла: “Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите”. До этой высоты далеко. Трагедия – один из критериев осознания истинности бытия. Как человек проходит свой путь, как совершает шаги по ступеням – вот это и составляет его творчество. И будет ветка стекло царапать и солнце сиять, как медь, и будут слезы неслышно капать, а сердце – страдать и петь…